Шуре и Саше
ИСТОРИИ НЕ МОЕЙ ЖИЗНИ
То, что рассказала мне бабушка
Дорогие родные, близкие и далёкие. Если рассказы расходятся с вашими воспоминаниями и сведениями, воспримите это, пожалуйста, с уважением. Я буду рада дополнениям.
Мы с бабой Шурой записывали истории почти год.
К некоторым рассказам добавлены мамины или мои воспоминания и впечатления, они выделены курсивом.
Мы связаны со всеми, кто был до нас и будет после. Пусть каждому найдётся место в историях, и каждому живущему будет много места в собственной жизни.
Мы с бабой Шурой записывали истории почти год.
К некоторым рассказам добавлены мамины или мои воспоминания и впечатления, они выделены курсивом.
Мы связаны со всеми, кто был до нас и будет после. Пусть каждому найдётся место в историях, и каждому живущему будет много места в собственной жизни.
Чернецкие и Батурины. Дедушки и бабушки
У меня два дедушки. Один – Александр Осипович[1], тятин отец. Второй – мамин, Никита Конович[2].
У Александра Осиповича жена Агниза Семёновна, строгая. Это её второй брак. Первый раз была замужем за Рудневым, он погиб на войне, от него было двое детей, сводные брат и сестра моему тяте: Василий Афанасьевич и Степанида Афанасьевна, мать Миши Тоута[3].
Когда дед Александр приехал в Сибирь, был холостой, посватался к Агнизе. У них дети Егор, Николай, мой тятя[4], Иван[5] и Агниза[6] – высокая, говорят, я на нее похожа.
Дед Александр знал все молитвы и молился богу, был строгий. Когда учились в школе – мой брат Семён в четвёртом, Алексей в первом, а я во втором классе, – жили у них на квартире, и дед всё бегал за нами с ремнём. Агниза тоже была строгая, раз стукнула меня казанком[7] так, что чуть руку мне не сломала, за то, что я, убирая со стола, опрокинула и сломала солонку.
Дед Никита был высокий, здоровый, суровый, бил свою жену Екатерину Васильевну – маленькую, шуструю, добрую. Помню, в 38-м году, когда училась в первом классе, у деды Никиты жил в бане его отец Кон Титович, сосланный в Сибирь, кажется. Говорят, в Баргузинском районе на Глинке он организовал своё строительство, был там главным. Но это так говорят, не знаю.
У них были дети Афанасий, Платон[8], Александр, Степан[9]; Риммонья[10], у неё пятеро детей – мы; Анна, у неё трое: Степка, Лёнька, Людка, и Мария[11], у неё одна Тамара[12], спортсменка по конькам, у которой двойнишки – Сашка и Ирка Ярёменко, живут в городе.
У Степана было восемь детей, его жена – моя крёстная. Он почему-то всё время сидел в тюрьме, «рука с клеем была»: то корову застрелит, то верёвки в колхозе украдёт, то муки утащит.
У дяди Афанасия был дети Коля, Маруська, Татьяна, Алексей и Сашка. Коля убит на войне. Маруська умерла парализованная и в плохом уме лет в 20. Когда ей было 12 лет, мы бегали на пожар, а пацаны поймали мышь и засунули ей за шкирку, и её от страха стали бить припадки. Красавица Татьяна была спортсменка, каталась и повредила ногу, ей её отняли по лодыжку. Она жила в городе, работала в КБО (комбинат бытовых услуг) портнихой. Сашка сейчас живёт в Нестерово, хорошо живёт.
У Александра Осиповича жена Агниза Семёновна, строгая. Это её второй брак. Первый раз была замужем за Рудневым, он погиб на войне, от него было двое детей, сводные брат и сестра моему тяте: Василий Афанасьевич и Степанида Афанасьевна, мать Миши Тоута[3].
Когда дед Александр приехал в Сибирь, был холостой, посватался к Агнизе. У них дети Егор, Николай, мой тятя[4], Иван[5] и Агниза[6] – высокая, говорят, я на нее похожа.
Дед Александр знал все молитвы и молился богу, был строгий. Когда учились в школе – мой брат Семён в четвёртом, Алексей в первом, а я во втором классе, – жили у них на квартире, и дед всё бегал за нами с ремнём. Агниза тоже была строгая, раз стукнула меня казанком[7] так, что чуть руку мне не сломала, за то, что я, убирая со стола, опрокинула и сломала солонку.
Дед Никита был высокий, здоровый, суровый, бил свою жену Екатерину Васильевну – маленькую, шуструю, добрую. Помню, в 38-м году, когда училась в первом классе, у деды Никиты жил в бане его отец Кон Титович, сосланный в Сибирь, кажется. Говорят, в Баргузинском районе на Глинке он организовал своё строительство, был там главным. Но это так говорят, не знаю.
У них были дети Афанасий, Платон[8], Александр, Степан[9]; Риммонья[10], у неё пятеро детей – мы; Анна, у неё трое: Степка, Лёнька, Людка, и Мария[11], у неё одна Тамара[12], спортсменка по конькам, у которой двойнишки – Сашка и Ирка Ярёменко, живут в городе.
У Степана было восемь детей, его жена – моя крёстная. Он почему-то всё время сидел в тюрьме, «рука с клеем была»: то корову застрелит, то верёвки в колхозе украдёт, то муки утащит.
У дяди Афанасия был дети Коля, Маруська, Татьяна, Алексей и Сашка. Коля убит на войне. Маруська умерла парализованная и в плохом уме лет в 20. Когда ей было 12 лет, мы бегали на пожар, а пацаны поймали мышь и засунули ей за шкирку, и её от страха стали бить припадки. Красавица Татьяна была спортсменка, каталась и повредила ногу, ей её отняли по лодыжку. Она жила в городе, работала в КБО (комбинат бытовых услуг) портнихой. Сашка сейчас живёт в Нестерово, хорошо живёт.
Александр Батурин, двоюродный брат бабы Шуры.
Алексей Батурин, двоюродный брат бабы Шуры
Иван Батурин, двоюродный брат бабы Шуры
У дяди Платона с женой своих детей не было, чужих растили.
Дядя Саша был инженером на дороге, простыл и сильно заболел. Его повезли в город, но он умер по дороге в селе Уточкино недалеко от Улан-Удэ, там и схоронили. Был молодой совсем. Спустя несколько дней у него родился сын Юрка, жена как раз в роддоме была, когда дядя Саша умер. Юрку в 18 лет укусил энцефалитный клещ, и он сделался инвалидом. Они переехали в Майск, и там на рыбалке Юрка запутался в сетях и утонул.
Все дедушки работали на «помещиков»-единоличников, эти единоличники и сами работали, и работяг нанимали. Вот у них и работали, выживали, как могли. Пенсии не было, ничего не было.
Дядя Саша был инженером на дороге, простыл и сильно заболел. Его повезли в город, но он умер по дороге в селе Уточкино недалеко от Улан-Удэ, там и схоронили. Был молодой совсем. Спустя несколько дней у него родился сын Юрка, жена как раз в роддоме была, когда дядя Саша умер. Юрку в 18 лет укусил энцефалитный клещ, и он сделался инвалидом. Они переехали в Майск, и там на рыбалке Юрка запутался в сетях и утонул.
Все дедушки работали на «помещиков»-единоличников, эти единоличники и сами работали, и работяг нанимали. Вот у них и работали, выживали, как могли. Пенсии не было, ничего не было.
[1] Родился в 1872 году. Его отец – Чернецкий (И)Осип Егорович (1815 - 04.11.1874), крестьянин Молчановского селения в Прибайкалье. Его дед – Егор Чернецкий, возможно, участник восстания в Польше 1830 года, за что был сослан в Сибирь. В старости Александр Осипович жил у своего сына Николая, отца бабы Шуры, в Кике. Баба Римма (невестка) пекла для него хлеб отдельно, он его хранил в тапчане, запирал на замок, а маленькие внуки – Алексей и Семён – выбивали доски со стороны дна и вытаскивали. Говорил ребятишкам: «Ой, да и лени…»
[2] Батурин Никита Конович. Его отец – Батурин Кон Титович.
[3] Михаил Тоут (1931-2003), утонул в Байкале на рыбалке. Его сын Витя тоже утонул на Байкале на рыбалке. Двоюродный брат бабы Шуры, его отец – австриец, попавший в плен в Первую мировую, вернулся в Австрию в 1930-е годы. Дядя Миша был трудолюбивый и основательный.
[2] Батурин Никита Конович. Его отец – Батурин Кон Титович.
[3] Михаил Тоут (1931-2003), утонул в Байкале на рыбалке. Его сын Витя тоже утонул на Байкале на рыбалке. Двоюродный брат бабы Шуры, его отец – австриец, попавший в плен в Первую мировую, вернулся в Австрию в 1930-е годы. Дядя Миша был трудолюбивый и основательный.
[4] Чернецкий Николай Александрович, отец бабы Шуры (22.05.1896 – 06.03.1965). Был добрый, мягкий, грамотный, всегда читал газеты и слушал радио. В 50-е годы отняли ногу из-за гангрены после повреждения на смолокурке. На костылях ходил и на рыбалку, на реке Кике была «Николкина ямка» - только у него там ловилась рыба. Много водился с внуками.
[5] Чернецкий Иван Александрович (1901 - 1976, неточно).
[6] Ельцова (Чернецкая) Агниза Александровна. Жила в Соболихе, было много детей.
[7] Сгиб пальца
[5] Чернецкий Иван Александрович (1901 - 1976, неточно).
[6] Ельцова (Чернецкая) Агниза Александровна. Жила в Соболихе, было много детей.
[7] Сгиб пальца
[8] Батурин Платон Никитич (1900 - ?). Жил в Хаиме, лесничий. Детей не было.
[9] Батурин Степан Никитич (1915 – 1965). Работал в артеле «Лесохимик» в Гурулёво. Воевал 1941 – 1943 гг.
[10] Чернецкая (Батурина) Риммонья (Риммовья) Никитична (05.06.1905 – 02.12.1982), мать бабы Шуры.
[11] Любимова (Батурина) Мария Никитична (1910 – 1988), жила в Улан-Удэ.
[12] Ярёменко (Любимова) Тамара Александровна (? – 07.01.2015)
[9] Батурин Степан Никитич (1915 – 1965). Работал в артеле «Лесохимик» в Гурулёво. Воевал 1941 – 1943 гг.
[10] Чернецкая (Батурина) Риммонья (Риммовья) Никитична (05.06.1905 – 02.12.1982), мать бабы Шуры.
[11] Любимова (Батурина) Мария Никитична (1910 – 1988), жила в Улан-Удэ.
[12] Ярёменко (Любимова) Тамара Александровна (? – 07.01.2015)
Чернецкие. Братья и сёстры
Мы жили в селе Гурулёво[13], дом был на окраине деревни, а дальше – степь и степь. В доме ничего не было: ни постели, ни кроватей, спали на палатях, шушлачок подстелим – и спим. Нас было четверо братьев и две сестры: Кеша [14] - с 1923, Семён[15] - с 1926, я[16] - с 1929, Алексей[17] (звали его Лёнька), Володя[18] - с 1933, Полина[19] - с 1935.
Чернецкий Николай Александрович (22.05.1896–06.03.1965), отец бабы Шуры
Батурина (Чернецкая) Риммонья (Римовья) Никитична (05.06.1905–02.12.1982), мать бабы Шуры
Родители бабы Шуры
До 1935 года мы жили в Гурулёво, а в мае переехали в Кику[20]. Там открылся леспромхоз, и тятя пошёл туда работать. До этого он был единоличником, работал на «богатеев» за муку.
Переехали в Кику. Там дом у Лобыциных пустовал, туда и пустили нас. В октябре родилась Полина.
Прожили в Кике год – и умер Кеша, мне тогда 7 лет было. Кешу мы звали «братька», у него случился менингит, по жаре искупался в холодной Кике, – и ни машины, ничего. Пока мама ходила просить лошадь свозить в амбулаторию за 21 килòметр, он умер.
Переехали в Кику. Там дом у Лобыциных пустовал, туда и пустили нас. В октябре родилась Полина.
Прожили в Кике год – и умер Кеша, мне тогда 7 лет было. Кешу мы звали «братька», у него случился менингит, по жаре искупался в холодной Кике, – и ни машины, ничего. Пока мама ходила просить лошадь свозить в амбулаторию за 21 килòметр, он умер.
[13] Гурулёво — село в Прибайкальском районе Бурятии. Расположено на 89-м километре региональной автодороги Р438 (Баргузинский тракт) в 35 км к северо-востоку от районного центра — села Турунтаево. Впервые упоминается в 1735 году в списке Г.Ф.Миллера. Население в 2010 году – 231 человек.
[14] Чернецкий Инннокентий Николаевич (1923 – 1936)
[15] Чернецкий Семён Николаевич (1926 – 1967)
[14] Чернецкий Инннокентий Николаевич (1923 – 1936)
[15] Чернецкий Семён Николаевич (1926 – 1967)
[16] Чебунина (Чернецкая) Алексанра Николаевна, наша баба Шура. Родилась 3 мая 1929 года.
[17] Чернецкий Алексей Николаевич (1930 – 30.11.1982). Баба Римма была старенькая, плохо видела. Алексея привезли хоронить в её дом, а ей боялись сказать. Хоронили его вместе с матерью Риммой.
[18] Чернецкий Владимир Николаевич (13.06.1932 – 03.01.1993)
[19] Залуцкая (Чернецкая) Пелагея Николаевна (род. 14.10.1935)
[17] Чернецкий Алексей Николаевич (1930 – 30.11.1982). Баба Римма была старенькая, плохо видела. Алексея привезли хоронить в её дом, а ей боялись сказать. Хоронили его вместе с матерью Риммой.
[18] Чернецкий Владимир Николаевич (13.06.1932 – 03.01.1993)
[19] Залуцкая (Чернецкая) Пелагея Николаевна (род. 14.10.1935)
[20] Кика – село в Прибайкальском районе Бурятии. Расположено на реке Кике на 103-м километре региональной автодороги Р438 Баргузинский тракт, в 49 км к северо-востоку от районного центра — села Турунтаево. Основана примерно в 1914 году Фёдором и Феоньей Чебуниными, дедушкой и бабушкой деды Миши. Пришли из Тарбагатая с семейскими Заиграивыми. С 1949 года — лесоучасток Итанцинского леспромхоза. Население в 2010 году – 508 человек.

На поминках брата Кеши.
1-й ряд слева направо: 1 и 2 – неизвестные; братья Володя и Лёня, Шура (баба Шура), двоюродная сестра Тамара Ярёменко
2-й ряд слева направо: 1 и 2 – Молчановы (дальняя родня); Петя Чебунин, брат Семён, Толя Зубарев (двоюродный брат деды Миши)
3-й ряд: родители Риммонья и Николай
1-й ряд слева направо: 1 и 2 – неизвестные; братья Володя и Лёня, Шура (баба Шура), двоюродная сестра Тамара Ярёменко
2-й ряд слева направо: 1 и 2 – Молчановы (дальняя родня); Петя Чебунин, брат Семён, Толя Зубарев (двоюродный брат деды Миши)
3-й ряд: родители Риммонья и Николай
Потом мы купили домик у стариков Марковых. Потом в школу пошли, то-сё.
Семён
Семён ушел в армию на войну в 43-м, вернулся в 52-м, служил в Китае. После армии пошёл в леспромхоз в Турке[21], там встретил Галю, поженились, трое детей у них.
В 40 лет его задавило трактором, он его ремонтировал. 6 марта 1965 умер тятя, а через год, в марте 1966 – Семён.
Оба сына его уже умерли, пили сильно, а дочь Ольга-красавица живёт в Улан-Удэ.
Семён ушел в армию на войну в 43-м, вернулся в 52-м, служил в Китае. После армии пошёл в леспромхоз в Турке[21], там встретил Галю, поженились, трое детей у них.
В 40 лет его задавило трактором, он его ремонтировал. 6 марта 1965 умер тятя, а через год, в марте 1966 – Семён.
Оба сына его уже умерли, пили сильно, а дочь Ольга-красавица живёт в Улан-Удэ.

Брат Семён (1926-1966)
Алексей
Алексей был красавец, на гармошке играл. На север уехал, там женился, ребёнок родился совсем больной, развелись. Привёз оттуда Аньку-мору, так её все называли. Двоих детей родили: Надьку – умерла от пьянства, а дети ее нормально живут, и Кольку, он повесился.
Алексей был красавец, на гармошке играл. На север уехал, там женился, ребёнок родился совсем больной, развелись. Привёз оттуда Аньку-мору, так её все называли. Двоих детей родили: Надьку – умерла от пьянства, а дети ее нормально живут, и Кольку, он повесился.

Брат Алексей (22.02.1927-30.11.1982)
Володя
Володя ушёл в армию, приехал оттуда с Шурочкой рязанкой и её сыном Толиком. Своих детей нет. Она со временем пить стала. Володя на работе, а она выпивает; придёт с работы, она ему – чекушку, и идут с гармошкой по деревне. Потом Шурочка умерла, то ли замерзла, то ли что.
Володя жил без неё[22], потом в избе то ли угорел, то ли замерз. Сестра Полина пришла его проведывать и с новым годом поздравить, а у него всё заложено. Открыли – а он мёртвый лежит.
Володя ушёл в армию, приехал оттуда с Шурочкой рязанкой и её сыном Толиком. Своих детей нет. Она со временем пить стала. Володя на работе, а она выпивает; придёт с работы, она ему – чекушку, и идут с гармошкой по деревне. Потом Шурочка умерла, то ли замерзла, то ли что.
Володя жил без неё[22], потом в избе то ли угорел, то ли замерз. Сестра Полина пришла его проведывать и с новым годом поздравить, а у него всё заложено. Открыли – а он мёртвый лежит.

Брат Володя (13.06.1932-03.01.1993)
Тётка Анна, у которой баба жила в няньках; родители и брат Алексей. Делают ремонт
Брат Володя с женой Шурой Апрелихой и её сыном Толей
Брат Семён с женой Галиной и сыном Витей
Полина
Полина пошла работать рано. Когда ей было 10 лет, маму судили[23]. Полина осталась одна девочка дома, у нас тогда две коровы доилось, а я уже в Гремячинске работала. С 12 или 14 лет работала в ДЭУ с кайлом[24], работа тяжелая, дороги подсыпали.
Вышла замуж, родила Петю[25]. Когда ему было год и восемь, разошлись с Игумновым. Жила у мамы, работала в леспромхозе, потом в Улан-Удэ кондуктором. Потом встретила Залуцкого[26], от него родила Таню[27] и Иру[28].
Полина пошла работать рано. Когда ей было 10 лет, маму судили[23]. Полина осталась одна девочка дома, у нас тогда две коровы доилось, а я уже в Гремячинске работала. С 12 или 14 лет работала в ДЭУ с кайлом[24], работа тяжелая, дороги подсыпали.
Вышла замуж, родила Петю[25]. Когда ему было год и восемь, разошлись с Игумновым. Жила у мамы, работала в леспромхозе, потом в Улан-Удэ кондуктором. Потом встретила Залуцкого[26], от него родила Таню[27] и Иру[28].
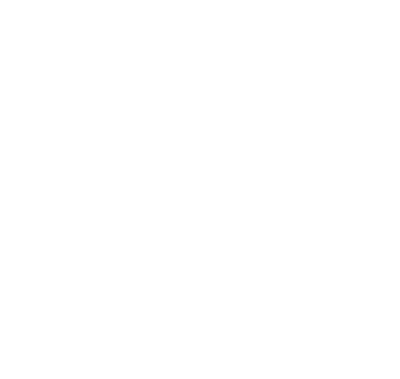
Сестра Полина, справа в нижнем ряду. Слева - баба Шура
Молодая собиралась замуж. В день свадьбы, уже когда был накрыт стол (что не на каждую свадьбу делалось в деревне!) не пришла из леса с работы: «Видеть его не могу, не пойду!» Жених тут же взял и женился на другой. А она со временем вышла замуж за Игумнова, жили дурно, не в ладу. А первый жених оказался хорошим мужем, хотя Полину так и любил. Когда развелась с Игумновым, вернулась к родителям, и они поселили ее в отдельное зимовье, чтобы могла свободно жить своей жизнью.
С Залуцким, который был младше ее, жили дружно, вместе выпивали. Дядя Володя был ласковым, веселым. Уже в старости так крепко обнял приехавшую к ним в гости бабу Шуру, что сломал ей ребро.
Лет в 75-78 баба Поля купила платье на свадьбу родственницы аж за 3,5 тысячи – «что, я не заработала себе, что ли?». В этом платье особенно хорошо танцевалось.
В 2007 году приезжала на похороны нашего дедушки. Немого выпив, не поделила с бабушкой кровать: сначала толкались, как дети, потом стали выяснять отношения. «Обскорбившись», ушла ночевать на каланчу к дяде Андрюше и Ларисе.
Лет в 75-78 баба Поля купила платье на свадьбу родственницы аж за 3,5 тысячи – «что, я не заработала себе, что ли?». В этом платье особенно хорошо танцевалось.
В 2007 году приезжала на похороны нашего дедушки. Немого выпив, не поделила с бабушкой кровать: сначала толкались, как дети, потом стали выяснять отношения. «Обскорбившись», ушла ночевать на каланчу к дяде Андрюше и Ларисе.

Владимир, второй муж Полины
Тамара, моя сестреница[29], на четыре года младше меня. Она дочка маминой сестры, одна у них была. Работала преподавателем по ботанике и ещё детям преподавала по конькам и стала мастером спорта конькобежным. Замуж вышла, и мужик у неё тоже мастер спортивный, но по другому спорту[30]. У них родились двойнишки – Саша и Ира, а через десять лет ещё Федя.
Она много лет тренером работала, её по телевизору показывали. Когда перестройка началась, коммунизм распался, Молотова отправили в Монголию, всех руководителей раскидали, и она на приём к нему ездила, фотка у неё с ним есть [31].
Она много лет тренером работала, её по телевизору показывали. Когда перестройка началась, коммунизм распался, Молотова отправили в Монголию, всех руководителей раскидали, и она на приём к нему ездила, фотка у неё с ним есть [31].

Тамара (1933-07.01.2015), двоюродная сестра бабы Шуры
Жили хорошо, дом купили, теперь там Федька живёт, а потом у неё с головой что-то сделалось неладно. Они стали дома её замыкать, а если не закроют – она босиком куда попало убежит.
Когда мы в Кику переехали, тятя был на военной переподготовке, а Кеше братишке было 9 дней, поминки делали. Вот Тамара с родителями приезжали, ещё фотка есть, она в бусиках, родители молодые, братья там, я.
Саша её привозил к нам в Устье, она всё метёт-метёт языком, а соображенья нету. Говорит, останусь у тебя, я говорю: «Оставайся, живи». Сашка говорит: "Она тебе спокою не даст". Увёз её.
Саша с Ирой в одной ограде в Улан-Удэ живут, и жена у него тоже Ира.
Тамара умерла 7 января 2015 года, вот два года было.
Феде ступню отняли, второй год не заживает, звонили нам недавно, просили медвежий жир.
Когда мы в Кику переехали, тятя был на военной переподготовке, а Кеше братишке было 9 дней, поминки делали. Вот Тамара с родителями приезжали, ещё фотка есть, она в бусиках, родители молодые, братья там, я.
Саша её привозил к нам в Устье, она всё метёт-метёт языком, а соображенья нету. Говорит, останусь у тебя, я говорю: «Оставайся, живи». Сашка говорит: "Она тебе спокою не даст". Увёз её.
Саша с Ирой в одной ограде в Улан-Удэ живут, и жена у него тоже Ира.
Тамара умерла 7 января 2015 года, вот два года было.
Феде ступню отняли, второй год не заживает, звонили нам недавно, просили медвежий жир.
[21] Турка – село в Прибайкальском районе Бурятии. Расположено на восточном берегу Байкала в устье реки Турки, в 169 км от города Улан-Удэ, на региональной автодороге Р438 Баргузинский тракт. Основано в 1813 году. Население в 2010 году – 1450 человек.
[22] Мы видели его в начале 1990-х, ходили к нему в гости с Лёшей Игумновым, дядя Володя нам рассказывал в шутку, как накопает червяков и ест. Показался смешным, но странным.
[23] См. «История с паспортом»
[24] Кирка́
[22] Мы видели его в начале 1990-х, ходили к нему в гости с Лёшей Игумновым, дядя Володя нам рассказывал в шутку, как накопает червяков и ест. Показался смешным, но странным.
[23] См. «История с паспортом»
[24] Кирка́
[25] Пётр (род.1957)
[26] Второй муж Владимир (1939–2003)
[27] Татьяна (род.1974)
[28] Ирина (род. 1980)
[26] Второй муж Владимир (1939–2003)
[27] Татьяна (род.1974)
[28] Ирина (род. 1980)
[29] Двоюродная сестра
[30] Василий Ярёменко – один из сильнейших конькобежцев Бурятии. В 1953 г. в первенстве ЦС ДСО «Локомотив» в Москве он получил первый приз. В течении пяти лет входил в состав сборной команды железнодорожников страны. В 1954 г. стал мастером спорта и был включен кандидатом в сборную команду СССР.
[31] Молотов был послом с 1960 года– видимо, баба Шура перепутала перестройку со смертью Сталина.
[30] Василий Ярёменко – один из сильнейших конькобежцев Бурятии. В 1953 г. в первенстве ЦС ДСО «Локомотив» в Москве он получил первый приз. В течении пяти лет входил в состав сборной команды железнодорожников страны. В 1954 г. стал мастером спорта и был включен кандидатом в сборную команду СССР.
[31] Молотов был послом с 1960 года– видимо, баба Шура перепутала перестройку со смертью Сталина.
Семейские
Семейские – русские старообрядцы Сибири.
Были переселены из Речи Посполитой, скорее всего, из районов Ветки, ныне города Гомельской области Белоруссии, где после церковного раскола 1654 года образовался центр русского старообрядчества, преследуемого на территории России светскими и церковными властями. Первый разгром Ветки произошёл в 1735 году, и старообрядцы были переселены в Восточную Сибирь и Забайкалье. Эти события получили название «Первого выгона», или «выводки». В 1765 году произошло второе выселение, в 1795 – третье.
Откуда пошёл род Чебуниных
«Байкальские легенды и предания». Фольклорные записи Л.Е. Элиасово. Бурятское книжное издательство. Улан-Удэ, 1984. Стр. 117-118.
При царе Алексее Михайловиче в религии раздор начался. Всей смуте начало положил Никон, верный слуга царя. Он исправлял старые книги и сказал, чтобы больше двумя перстами не молились, а в употреблении чтоб трехперстие было. Наш предок Вавила Чебунин жил тогда в Ярославле, занимался крестьянством, за старую веру стоял крепко. Он, как о законах Никона услыхал, сразу всю деревню против него поднял, и объявили те мужики все новые книги ересью и в бега пустились. Аввакумовцев царь с Никоном шибко невзлюбили, они старались всех правоверных на тот свет угнать, потому что стали староверы со своих родных мест бежать подальше от еретиков.
Сколько уж лет бегал Вавила, не знаю, но под старость лет оказался он со своей семьей на той стороне границы, кажись, в Польше. Там от сыновей Чебунина Вавилы семей с десяток стало. Через сотню лет, когда от Вавилы правнуки пошли, Катерина царица их начала скопом в Сибирь гнать. Некоторые Чебунины дорогой убежали, на Алтае скрылись, а Ферапорт Чебунин, правнук Вавилы, дошел до Тарбагатая. С ним в этот край два сына пришло, Мефодий и Исай.
У Мефодия было восемь сыновей, а у Исая – девять сыновей да четыре девки. Тут, в Тарбагатае, они все расселились, и от них постепенно весь род Чебуниных зачался.
Подробное описание быта семейских и упоминания о Чебуниных в записках декабристов - в конце записей, после основных историй.
Были переселены из Речи Посполитой, скорее всего, из районов Ветки, ныне города Гомельской области Белоруссии, где после церковного раскола 1654 года образовался центр русского старообрядчества, преследуемого на территории России светскими и церковными властями. Первый разгром Ветки произошёл в 1735 году, и старообрядцы были переселены в Восточную Сибирь и Забайкалье. Эти события получили название «Первого выгона», или «выводки». В 1765 году произошло второе выселение, в 1795 – третье.
Откуда пошёл род Чебуниных
«Байкальские легенды и предания». Фольклорные записи Л.Е. Элиасово. Бурятское книжное издательство. Улан-Удэ, 1984. Стр. 117-118.
При царе Алексее Михайловиче в религии раздор начался. Всей смуте начало положил Никон, верный слуга царя. Он исправлял старые книги и сказал, чтобы больше двумя перстами не молились, а в употреблении чтоб трехперстие было. Наш предок Вавила Чебунин жил тогда в Ярославле, занимался крестьянством, за старую веру стоял крепко. Он, как о законах Никона услыхал, сразу всю деревню против него поднял, и объявили те мужики все новые книги ересью и в бега пустились. Аввакумовцев царь с Никоном шибко невзлюбили, они старались всех правоверных на тот свет угнать, потому что стали староверы со своих родных мест бежать подальше от еретиков.
Сколько уж лет бегал Вавила, не знаю, но под старость лет оказался он со своей семьей на той стороне границы, кажись, в Польше. Там от сыновей Чебунина Вавилы семей с десяток стало. Через сотню лет, когда от Вавилы правнуки пошли, Катерина царица их начала скопом в Сибирь гнать. Некоторые Чебунины дорогой убежали, на Алтае скрылись, а Ферапорт Чебунин, правнук Вавилы, дошел до Тарбагатая. С ним в этот край два сына пришло, Мефодий и Исай.
У Мефодия было восемь сыновей, а у Исая – девять сыновей да четыре девки. Тут, в Тарбагатае, они все расселились, и от них постепенно весь род Чебуниных зачался.
Подробное описание быта семейских и упоминания о Чебуниных в записках декабристов - в конце записей, после основных историй.
Чебунины

Проводы Володи в армию. 1-й ряд слева направо: 1, 2, Михаил (дедушка), 2, Павел 3, Пётр . 2-й ряд: Степанида, Антонина, Владимир, Артамон. 3-й ряд: над Артамоном - баба Шура, слева - Осип.
Отец моего Михаила – Артамон [32]. Его родители – Феонья [33]-повитуха и Фёдор, семейские [34]. Феонья говорила Степаниде [35], жене Артамона: «У твоих братьев рот до ушей, как у лягушек, а у моего Антамона – как копеечка». Братья и сестры Артамона: Евсей, он погиб на войне, Марья, Александра, Евдоким. Родители родились в Тарбагатае [36],и в 1916 – 1917 годах закочевали общиной оттуда в Кику. Родители Степаниды, Ивлей и Марфа Заиграевы, тоже семейские, вместе приехали.
Ивлей был жестокий, когда выпьет, избивал жену Марфу так, то ей рубашку от крови отмачивали, чтобы снять. У них было шестеро детей: Агафья, Степанида, Егор, Аксён, Аксинья и Татьяна.
Татьяну, младшую, Ивлей не хотел, и когда ей было шесть месяцев, выломал окно и в зыбке [37] выбросил её за окошко. Девочка на испуге сделалась калечной: горбатенькая выросла, плохо говорила, умишком слабовата. Её вырастила Степанида. А Татьяна жила долго, даже когда мы с дедушкой поженились, с нами жила, всё по дому делала, няньчилась. Когда ходила работать в Гурулёво копать картошку, прижила там ребёнка. Родила, назвала Филиппом, а старшая Агафья записала его на Артамона, забрала и отдала в детдом. Татьяна кричала: «Не одам, не одам свово ребёночка, сама рОстить буду». Потом уже, не так давно, позвонили Антонине: «У вас есть брать Филипп Артамонович», а она не сразу поняла, какой брат. А что там было дальше – не знаю.
Ивлей был жестокий, когда выпьет, избивал жену Марфу так, то ей рубашку от крови отмачивали, чтобы снять. У них было шестеро детей: Агафья, Степанида, Егор, Аксён, Аксинья и Татьяна.
Татьяну, младшую, Ивлей не хотел, и когда ей было шесть месяцев, выломал окно и в зыбке [37] выбросил её за окошко. Девочка на испуге сделалась калечной: горбатенькая выросла, плохо говорила, умишком слабовата. Её вырастила Степанида. А Татьяна жила долго, даже когда мы с дедушкой поженились, с нами жила, всё по дому делала, няньчилась. Когда ходила работать в Гурулёво копать картошку, прижила там ребёнка. Родила, назвала Филиппом, а старшая Агафья записала его на Артамона, забрала и отдала в детдом. Татьяна кричала: «Не одам, не одам свово ребёночка, сама рОстить буду». Потом уже, не так давно, позвонили Антонине: «У вас есть брать Филипп Артамонович», а она не сразу поняла, какой брат. А что там было дальше – не знаю.
Мать Михаила, Степанида Заиграева, была добрая. У них с Артамоном было девять детей: Анатолий[38] – с 1919, Осип[39] – с 1923, Михаил[40] – с 1926, Петя[41] – мой годок, с 1929, Павел[42] синеглазый – с 1932, Вася[43] – с 1935, Володя[44] – с 1940, Антонина[45] – с 1946, 31 декабря родилась.
У них была ещё Люся с 1937 года, умерла в 2 года от детской кори. Заболела, а они ей еще и холодный компресс на горло сделали – вот и умерла. Бравенькая такая, кудрявенькая, умненькая не по годам.
У них была ещё Люся с 1937 года, умерла в 2 года от детской кори. Заболела, а они ей еще и холодный компресс на горло сделали – вот и умерла. Бравенькая такая, кудрявенькая, умненькая не по годам.

Артамон (1894-1970-е), отец деды Миши, с внуком Игорем
Артамон был тихий, работящий, хозяйственный, всю жизнь охотился и рыбачил. Любил порядок, во всём старался угодить Степаниде, жили очень дружно. Был неграмотный, но деньги хорошо считал. Ходил в магазин, готовил, потом звал жену: «Степнидууу, иди вужинать!». Был независимым, «на своей волне», всегда говорил напрямую, что думает. Много матерился – разговаривал так. Последние годы жизни работал печником и сторожем в школе. Приехал большой начальник с проверкой в школу, а Артамон ему большим матом: «Вы кого же думаете, в школу сырых дров привезли».
В 1918 – 1919 через Кику проходили отряды каппелевцев, заставили Артамона провести их короткими тропами к красным. Он отказался, он был ни за белых, ни за красных, и его выпороли шомполами – 25 ударов. Был крепкий, выжил.

Степанида (?-1975) с сыном Феофаном (дедой Мишей)
Степанида была очень ласковая с детьми, садилась на пол, а ребятишки по ней ползали, играли, нежились. Не работала, на покос не ходила. В доме чётко распределяла обязанности: многое делал Артамон, дети, как подрастут, тоже участвовали в хозяйстве. У Чебунят всегда было, что поесть, все были при деле.
В семье было принято, что в престольные праздники, несмотря на большое количество детей, Степанида уходила в гости в соседние сёла на 3-4 дня, дети и хозяйство были на Артамоне.
У Заиграевых семейная черта – вольные люди, шумные, свободные, дерзкие. Внешне яркие, высокие, с «разбойничей» красотой. Звонкие голоса, задорный смех. Удалые, всё ладилось.
В семье было принято, что в престольные праздники, несмотря на большое количество детей, Степанида уходила в гости в соседние сёла на 3-4 дня, дети и хозяйство были на Артамоне.
У Заиграевых семейная черта – вольные люди, шумные, свободные, дерзкие. Внешне яркие, высокие, с «разбойничей» красотой. Звонкие голоса, задорный смех. Удалые, всё ладилось.
[32] Чебунин Артамон Фёдорович (1894 – 1970-е)
[33] Феонья (1870 – январь 1964)
[34] Семейские – русские старообрядцы Сибири
[35] Заиграева (Чебунина) Степанида Ивлевна (? – ок.1975).
[33] Феонья (1870 – январь 1964)
[34] Семейские – русские старообрядцы Сибири
[35] Заиграева (Чебунина) Степанида Ивлевна (? – ок.1975).
[36] Тарбагатай – одно из крупнейших старообрядческих сёл в Забайкалье. Основано в начале XVIII века, в 1744 году возведена православная Зосимо-Савватиевская церковь, со второй половины XVIII века – место поселения семейских. Изначальное название — слобода Паргабентей. Местные жители называли село Тарбагатай, «место, где живут тарбаганы», т.е. монгольские (сибирские) сурки. Расположено по реке Куйтунке (правый приток Селенги) при впадении речки Тарбагатайки, в 65 км к юго-западу от Улан-Удэ на федеральной автомагистрали Р258 «Байкал». Население в 2010 году — 4308 человек.
[37] Люлька из мешковины на четырёх палках.
[37] Люлька из мешковины на четырёх палках.
[38] Чебунин Анатолий (Филипп) Артамонович (1919 – 1996)
[39] Чебунин (И)Осип Артамонович (1923 – конец 1990х)
[40] Чебунин Михаил (Феофан) Артамонович (10.10.1926 – 11.07 2007). Наш дедушка Миша
[41] Чебунин Пётр (Перфил) Артамонович (1929 – 2016)
[42] Чебунин Павел Артамонович (1932 – ок.1992/3)
[43] Чебунин Василий Артамонович (1935-?)
[44] Чебунин Владимир Артамонович (1940 – 2002)
[45] Трофимова (Чебунина) Антонина (род. 31.12.1946)
[39] Чебунин (И)Осип Артамонович (1923 – конец 1990х)
[40] Чебунин Михаил (Феофан) Артамонович (10.10.1926 – 11.07 2007). Наш дедушка Миша
[41] Чебунин Пётр (Перфил) Артамонович (1929 – 2016)
[42] Чебунин Павел Артамонович (1932 – ок.1992/3)
[43] Чебунин Василий Артамонович (1935-?)
[44] Чебунин Владимир Артамонович (1940 – 2002)
[45] Трофимова (Чебунина) Антонина (род. 31.12.1946)
Анатолий
Анатолий был спокойный, синеглазый, с темными ресницами и светлыми волнистыми волосами, красивый. По рождению – Филипп, Анатолием пришёл из армии. Егов 39-м призвали, в 46-м он пришёл. В Черёмушке работал поваром, там встретил Пану. Жили в Горячинске. Сын Петя потерялся, где-то на рыбалке пропал, а дочь Валя живёт в Турунтаево.
Анатолий был спокойный, синеглазый, с темными ресницами и светлыми волнистыми волосами, красивый. По рождению – Филипп, Анатолием пришёл из армии. Егов 39-м призвали, в 46-м он пришёл. В Черёмушке работал поваром, там встретил Пану. Жили в Горячинске. Сын Петя потерялся, где-то на рыбалке пропал, а дочь Валя живёт в Турунтаево.

Анатолий с семьёй (1919-1996)
Осип
Осип до 30 лет был заядлый холостяк, в войну кормил всю семью.
Самый красивый из Чебунят, шибко красивый, высокий, здоровый, голубоглазый. Его не призвали, он инвалидом был. Без двух ребёр и с пулей в лёгком. В 15 лет ходил на лося и случайно прострелил себе лёгкое. Шёл один, кровил, пять километров по лесу. Его увезли в город и удалили два ребра. Так с пулей и жил 60 лет. Потом ему трубочку поставили, чтобы гниль из лёгкого вытекала.
Он никого до Ульяны в жизни не встречал, она у него единственная была.
Осип до 30 лет был заядлый холостяк, в войну кормил всю семью.
Самый красивый из Чебунят, шибко красивый, высокий, здоровый, голубоглазый. Его не призвали, он инвалидом был. Без двух ребёр и с пулей в лёгком. В 15 лет ходил на лося и случайно прострелил себе лёгкое. Шёл один, кровил, пять километров по лесу. Его увезли в город и удалили два ребра. Так с пулей и жил 60 лет. Потом ему трубочку поставили, чтобы гниль из лёгкого вытекала.
Он никого до Ульяны в жизни не встречал, она у него единственная была.

Осип (Иосип) (1923-конец 1990-х)
Как полюбил её, так пошёл в Гурулёво свататься. А родители отдавать не хотели. Он остался у них в палисаднике, осаждал их, обещал Ульяну зарезать, если не отдадут. Ульяна младше его была, с 32-го года. Вот в 51-м году 14 января они поженились.
Их сестра Тонька маленькая была, три года ей, говорит мне: «Шулька, Шулька, Воська-то Вульку из Гурулёвой на кошёвке[46] привез!».
Изба, где мы жили, была как кухня в Устье[47], два стола стояло, кровать, стул, печка. Тут и устроили Осипу вечер типа свадьбы. Степанида взяла рушник[48], хлеб, соль, кричит: «Антамон, иди, поздравь молодых!», а он отвечает, даже не встал, не пришел: «Да я отсюда скажу!». Сделали ещё одну кровать молодым. У нас уже Валера был, так и жили 12 человек в одной избе.
Осип с Ульяной прожили много лет, бравенько, дружно жили. Первый мальчик у них был Коля, они тогда еще в зимовьюшке жили. Мальчику было два годика. Осип ушёл на охоту, а мать занесла в дом холодной воды со льдом – он её и наглотался, пока та не видела. Увезли его в больницу, 45 километров от Кики. Там был хирург Недорезов. Разрезал Коле горлышко, поставил трубку, откатили его в навроде реанимации. И ни воды, ни врачей, ничего нет. Ульяна с ним сидела, звала, но он умер. У него признали потом дифтерию, но это ангина была, ангиной замучался. Осип пришёл когда с охоты, плакал, хотел зарезать хирурга, разбил им всю больницу. Наш дедушка Коле гробик сделал со стеклышком, где лицо, так он в глазах и стоит, бравенький парнишечка был.
Потом у них Таня родилась, у нее три сына и дочь. Потом сын Вася, Осип его очень любил, даже взрослого называл Васечкой, в Кике живут.
Осип в старости пролежал год до смерти, а Уля после него ещё лет 5 прожила. На ноге у неё язва образовалась, она её свиным салом лечила, никуда не обращалась.
Ульяна красивая была, про неё много слухов ходило. Осип никому не верил, любил её. А Степанида всё караулила, когда Осип на охоту уходил. Осип на мать рассердился, что она на Ульяну наговорила, и всю жизнь с ней не общался.
Когда Степанида заболела, мы с дедушкой приехали, она всех детей позвала – посмотреть на них. Она говорит: «Хванка с Шуркой молодцы, всегда чаю привезут, не то, что Петька. А почё Оськи нет?». Петя обиделся, убежал.
Осип и на похороны к матери не пришёл, и Васька не пришёл – не знаю, почему, мать его называла «тюремщик». А на поминки оба пришли, и сестра Тонька схватила ружьё, обоих застрелить хотела за обиду за мать.
Изба, где мы жили, была как кухня в Устье[47], два стола стояло, кровать, стул, печка. Тут и устроили Осипу вечер типа свадьбы. Степанида взяла рушник[48], хлеб, соль, кричит: «Антамон, иди, поздравь молодых!», а он отвечает, даже не встал, не пришел: «Да я отсюда скажу!». Сделали ещё одну кровать молодым. У нас уже Валера был, так и жили 12 человек в одной избе.
Осип с Ульяной прожили много лет, бравенько, дружно жили. Первый мальчик у них был Коля, они тогда еще в зимовьюшке жили. Мальчику было два годика. Осип ушёл на охоту, а мать занесла в дом холодной воды со льдом – он её и наглотался, пока та не видела. Увезли его в больницу, 45 километров от Кики. Там был хирург Недорезов. Разрезал Коле горлышко, поставил трубку, откатили его в навроде реанимации. И ни воды, ни врачей, ничего нет. Ульяна с ним сидела, звала, но он умер. У него признали потом дифтерию, но это ангина была, ангиной замучался. Осип пришёл когда с охоты, плакал, хотел зарезать хирурга, разбил им всю больницу. Наш дедушка Коле гробик сделал со стеклышком, где лицо, так он в глазах и стоит, бравенький парнишечка был.
Потом у них Таня родилась, у нее три сына и дочь. Потом сын Вася, Осип его очень любил, даже взрослого называл Васечкой, в Кике живут.
Осип в старости пролежал год до смерти, а Уля после него ещё лет 5 прожила. На ноге у неё язва образовалась, она её свиным салом лечила, никуда не обращалась.
Ульяна красивая была, про неё много слухов ходило. Осип никому не верил, любил её. А Степанида всё караулила, когда Осип на охоту уходил. Осип на мать рассердился, что она на Ульяну наговорила, и всю жизнь с ней не общался.
Когда Степанида заболела, мы с дедушкой приехали, она всех детей позвала – посмотреть на них. Она говорит: «Хванка с Шуркой молодцы, всегда чаю привезут, не то, что Петька. А почё Оськи нет?». Петя обиделся, убежал.
Осип и на похороны к матери не пришёл, и Васька не пришёл – не знаю, почему, мать его называла «тюремщик». А на поминки оба пришли, и сестра Тонька схватила ружьё, обоих застрелить хотела за обиду за мать.
[46] Сидячие сани, сани-кресло [47] Примерно 24 кв.метра [48] Полотенце
Осип и Ульяна жили в любви, в согласии. Она была красивая, он нежно к ней относился. Его мать, Степанида, не очень жаловала невестку, и когда Ося уходил надолго на охоту, приглядывала за ней, не гуляет ли от мужа.
Двоюродный брат Осипа, Гоша Акинфеев – блатной, был неравнодушен к Уле, и заходил к ней в гости на правах родственника, когда муж был на охоте; у них уже были дети. Просто ходил, чай пил, разговаривал, может, душой отдыхал. Уля сторонилась его. Степанида же, заподозрив невестку, нажаловалась сыну. Всегда спокойный Осип разгневался на мать и перестал с ней общаться – навсегда. Несколько десятилетий, до самой смерти матери, они не общались, живя при этом на соседних улицах. Он даже не пришел ее хоронить. Был только на поминках. Его младшая сестра Тоня – шумная и горячего нрава, да еще и подпив – хотела его убить за обиду за мать, бросив сверху через забор на него, сидящего на лавочке за оградой , большую чурку (баба Шура вспоминает, что было ружьё) Или не попала, или остановили, или не получилось.
Гоша Акинфеев, которому нравилась Ульяна – это племянник Степаниды от её сестры Агафьи, которая сочетала в себе два качества: никак не хотел стать современной, носила семейскую одежду, бусы, кичку, ясно показывала, что она староверка. При этом была матюжница, у неё сыновья были уголовники, про мужа не знаю.
Гоша был лысый, голубоглазый, харизматичный, всё мечтал свергнуть советскую власть, не принимал никакие законы. В тюрьме принципиально не работал, был «отрицалово», играл в карты. Когда Агафья ходила на свидания к сыновьям, она проносила под своим староверским фартуком грелку с самогоном.
Люди были такие, что жили сами по себе, как им надо. Когда Гоша приезжал в Кику после освобождений, все кикинские мужики собирались на квартире его брата, мужа Дуси Заиграевой. Гоша привозил в Кику «дурь» - коноплю и конопляное масло, мужики ночами курили и играли в карты. Дедушка (деда Миша) там штаны проиграл.
Мы видели деду Осю его примерно в 1993 году, когда были в Кике. Рядом с просторным домом был старый дом, как избушка на курьих ножках, такой там был низкий потолок и так много вещей. Сам деда Ося показался добрым лешим: седым, сгорбленным, высоким, хитрым. Очень нежно относился к бабе Уле, ласково её называл. Бабу Улю мы видели тогда же, потом примерно в 2006-2007 году. Тогда она уже жила одна и даже в старости была красивой.
В 70-е годы Осип собирал особый папоротник для японских лекарств. Японцы сами его нашли и хорошо платили за работу. Как и наш дедушка, тоже лесной человек, мыслил без стереотипов, на всё имел своё мнение. Много матерился, выразительно и образно говорил. Слушая транзитор, привезенный японцами, комментировал новости о достижениях народного хозяйства и успехах на международной арене. С 60-х годов ждал крах Советского Союза и не любил коммунистов («Это ж кого ж, он, этот Хрущ думает, кукурузой всю засеял, подохнем с кукурузы этой!»)
Михаил
Дальше идёт деда наш, Михаил. Мы не дружили, он дружил с большими девками, а я его дразнила через с забор: «Максим Горький, Максим Горький». Он шёл в модной рубашке с кушачком, много пуговок – хальной Горький. Он мне с детства нравился. Ушёл на войну в 1943, я в шестом или седьмом классе училась. Баба Стёпа была неграмотная, придёт ко мне: «Санька, напиши Хванке письмо!». Я напишу от неё, а потом и от себя привет. Потом и он стал мне писать. Письма были длинные, про любовь. «Пули свистят… признаюсь, любил тебя с детства. Если останусь жив, то только ради тебя» - и всё в таком духе. Придёт от него письмо, а я прячусь, читаю.
Дальше идёт деда наш, Михаил. Мы не дружили, он дружил с большими девками, а я его дразнила через с забор: «Максим Горький, Максим Горький». Он шёл в модной рубашке с кушачком, много пуговок – хальной Горький. Он мне с детства нравился. Ушёл на войну в 1943, я в шестом или седьмом классе училась. Баба Стёпа была неграмотная, придёт ко мне: «Санька, напиши Хванке письмо!». Я напишу от неё, а потом и от себя привет. Потом и он стал мне писать. Письма были длинные, про любовь. «Пули свистят… признаюсь, любил тебя с детства. Если останусь жив, то только ради тебя» - и всё в таком духе. Придёт от него письмо, а я прячусь, читаю.
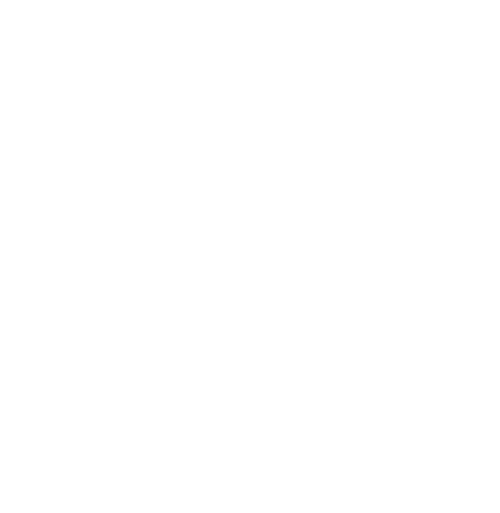
Михаил (Феофан) Артамонович, деда Миша (1926 (1924-по документам) - 11.07.2007)
Подпись к другой фотографии: "брату Перфилу от брата Феофана. Помне, не забывай писать. 19 января ..."
"На долгую добрую память маме, тяте, Иосифу, Перфилу, Павлу, Анатолию и Вовочке от брата и сына Михаила. Фотограф.Москва, 44. 8 октября 46. 25 октября (?) гор. Белград.
"На долгую дорую память Родителям и братьям от вашего сына и брата Феофана. Фотографировался на передовой Нарвы 28.07.44. Прошу не забывать. Привет от Ф.А. Выс(ылаю). 29.07.44 года, Нарва"
В 47-м пришёл домой, а в зыбке - сестра Тонька. Степанида рассказывала: «Хванка пришёл, спросил, это чей, а мне стыдно ответить, говорю, наша…»
В 48-м мы сошлись, ни свадьбы, ничего не было. Он работал десятником в леспромхозе, а в Гремячинск ко мне ездил на выходные. В 50-м родился Валера. Жить негде, он зовёт меня домой к старикам, а куда там! А у мамы дедушка Александр, тятин отец, уже лежал больной. Когда Осип в 51-м году женился, дед наш сделал ещё одну кровать из дерева.
14 января на свадьбе Осипа я вприсядку плясала, а 17-го Боря родился, Валере было год и пять дней. Кровати на свадьбу вынесли, дома ничего нет, все двенадцать человек брёвнами на полу спят, а Валера в кроватке. Ночью мучилась, а где рожать, думала на мороз выйти, там родить и заморозить, прости господи.
А утром хлеб ставить, печь. К Степаниде пришли в гости старухи, они с ними на праздник собиралась идти, мужики дома были. Пришла Феонья, мать Артамона, повитуха. Посмотрела, говорит: «Вы чо тут сидите, баба рожать собралась». Все разбежались, Боря родился. Ульяна ему крёстная.
Потом мы свой дом построили. Степанида дала нам тёлку. Сначала жили в зимовье, потом в бондарке, где бочки делали. В бондарке Таня и родилась. Наутро пришёл тятя, а Боря говорит: «Ой деда, деда, а у нас Танечка на печке» - так её и назвал. Пока Михаил ходил за медсестрой, я сама Таню родила. Мама прибежала, испугалась, а мне так стыдно что-то, я её за нитками отправила, а сама пуповину отрезала и пуп завязала.
В 48-м мы сошлись, ни свадьбы, ничего не было. Он работал десятником в леспромхозе, а в Гремячинск ко мне ездил на выходные. В 50-м родился Валера. Жить негде, он зовёт меня домой к старикам, а куда там! А у мамы дедушка Александр, тятин отец, уже лежал больной. Когда Осип в 51-м году женился, дед наш сделал ещё одну кровать из дерева.
14 января на свадьбе Осипа я вприсядку плясала, а 17-го Боря родился, Валере было год и пять дней. Кровати на свадьбу вынесли, дома ничего нет, все двенадцать человек брёвнами на полу спят, а Валера в кроватке. Ночью мучилась, а где рожать, думала на мороз выйти, там родить и заморозить, прости господи.
А утром хлеб ставить, печь. К Степаниде пришли в гости старухи, они с ними на праздник собиралась идти, мужики дома были. Пришла Феонья, мать Артамона, повитуха. Посмотрела, говорит: «Вы чо тут сидите, баба рожать собралась». Все разбежались, Боря родился. Ульяна ему крёстная.
Потом мы свой дом построили. Степанида дала нам тёлку. Сначала жили в зимовье, потом в бондарке, где бочки делали. В бондарке Таня и родилась. Наутро пришёл тятя, а Боря говорит: «Ой деда, деда, а у нас Танечка на печке» - так её и назвал. Пока Михаил ходил за медсестрой, я сама Таню родила. Мама прибежала, испугалась, а мне так стыдно что-то, я её за нитками отправила, а сама пуповину отрезала и пуп завязала.
Наш Деда Миша
Наш дедушка Миша. Спокойный, застенчивый, умный. В детстве был расчётливый, разумный, в семье его звали Абрам. За хорошую учёбу был награждён отрезом ткани на штаны, но застеснялся получать награду и залез под лавку. Так всю жизнь и относился к наградам – всегда был передовиком производства, работал вальщиком, мастером в СМУ, а почётные грамоты пускал на черновики или вырезал из них стельки.
Наш дедушка Миша. Спокойный, застенчивый, умный. В детстве был расчётливый, разумный, в семье его звали Абрам. За хорошую учёбу был награждён отрезом ткани на штаны, но застеснялся получать награду и залез под лавку. Так всю жизнь и относился к наградам – всегда был передовиком производства, работал вальщиком, мастером в СМУ, а почётные грамоты пускал на черновики или вырезал из них стельки.

Деда Миша
Никогда не носил медали и ордена, а про других говорил: «Обвешались побрякушками!». Не любил рассказывать про войну : «Что рассказывать, друг друга убивали, парнишки парнишек». Однажды в канун 9 мая к нему пришли школьники с подарками и расспросами, а он ничего им не рассказал. Говорил, что на войне сознательно (не в массовой атаке, когда все стреляют) убил одного человека, когда оказался один на один с немцем в траншее, в штыковой атаке, и помнил лицо этого немца-ровесника.
Работал писарем в Москве в Кремле, выписывал наградные документы. Туда его взяли за почерк: цензура перечитывала письма с фронта. В Кремле поставили с поварами ровесниками бражку, за что их отправили обратно на фронт.
Дедушка рассказывал, что он работал интендантом полка, и когда они были в Румынии, его отдали под трибунал. Он выдавал продукты на ребятишек, мать которых один офицер взял где-то по пути и так и возил за собой, с четырьмя детьми. Сослуживец попросил дедушку выдавать и ему больше продуктов, раз офицеру даётся больше нормы, дедушка отказался, и тот написал на него жалобу. Деду отправили под трибунал с известным исходом. Во время суда в помещение зашёл Жуков по своим делам, спросил, за что что судят такого голубоглазого и есть ли у этого голубоглазого, что сказать. Дедушка ответил, что нет, и Жуков сказал: «Тогда иди отсюда».
Работал писарем в Москве в Кремле, выписывал наградные документы. Туда его взяли за почерк: цензура перечитывала письма с фронта. В Кремле поставили с поварами ровесниками бражку, за что их отправили обратно на фронт.
Дедушка рассказывал, что он работал интендантом полка, и когда они были в Румынии, его отдали под трибунал. Он выдавал продукты на ребятишек, мать которых один офицер взял где-то по пути и так и возил за собой, с четырьмя детьми. Сослуживец попросил дедушку выдавать и ему больше продуктов, раз офицеру даётся больше нормы, дедушка отказался, и тот написал на него жалобу. Деду отправили под трибунал с известным исходом. Во время суда в помещение зашёл Жуков по своим делам, спросил, за что что судят такого голубоглазого и есть ли у этого голубоглазого, что сказать. Дедушка ответил, что нет, и Жуков сказал: «Тогда иди отсюда».
И детям, и мне рассказывал, правда, когда был пьяненьким, что в Румынии у него была любовь – красавица цыганка Эра и что она писала ему, что родила дочку. Никто из детей подробностей не спрашивал, а я была маленькой, чтобы уточнять, поэтому неизвестно, правда ли это.
По рождению Феофан, поменял имя на более современное - Михаил – в конце войны, примерно в 1944. Призван в армию в декабре 1942. Закончил Нижнеудинскую школу снайперов, был войсковым разведчиком, ходил в тыл за немцами. Воевал на 3м украинском фронте (?). По официальным документам год рождения 1924 год.
По рождению Феофан, поменял имя на более современное - Михаил – в конце войны, примерно в 1944. Призван в армию в декабре 1942. Закончил Нижнеудинскую школу снайперов, был войсковым разведчиком, ходил в тыл за немцами. Воевал на 3м украинском фронте (?). По официальным документам год рождения 1924 год.

Деда Миша
Любил детей: «Маленького надо увàжить». Своих детей никогда не ругал, ни разу не повышал голос. Маму Таню с грудного возраста, с 1 месяца, брали в кино. Когда ей было 4,5 года, детей запретили брать в кино, бабушка решила оставить Таню дома, а дедушка хотел взять: это другие дети мешают, а Таня спокойная. Таня почувствовал поддержку отца, показательно изорвала герань на окне, бабушка вернулась, отругала сгоряча и снова пошла в кино. Таня в ответ разбила окна, порезала руки – никто в кино не пошёл. Дедушка пожалел дочку и отругал жену, ведь маленьких надо увàжить.

Деда и я
Дедушка очень мало говорил, с нами был ласковый. Говорил редко, но то, что думает. Его дядя Аксён был в Кике бригадиром. В войну его жена пекла на деревню хлеб, всем – с землей и золой, а себе – белый и пышный. В деревне работали одни женщины и подростки, и Аксён записывал их норматив на своих детей и себя, получал больше хлеба, а у односельчан всегда было невыполнение нормы.
В войну же был такой случай. Аксён пришёл к своей сестре, Степаниде и увидел, что дома варят картошку. Сразу понял, что это ребятишки накопали её на колхозном поле. Написал заявление и отдал племянника, Петю, под суд, ему 14 лет было. Судья в районе был человечным, дал только полгода. Так вот, когда Аксён умер и делали ему похороны в Кике, собравшимся было неудобно: сказать что-то надо, а добрым словом не помянешь. Деда взял слово: «Ну, раз сказать нечего, скажу я… Как говорится в пословице, помер Максим – ну и х.. с ним. Помянем».
Был скромным, ничего не просил, абсолютно не был привязан к материальному: «По той же земле ходят, тот же хлеб едят», «В гробу карманов нет». Говорил, что если умрёт зимой, его нужно закопать на задах (дальняя часть огорода) в снег до весны, а весной похоронить, чтобы никого не отягощать: могилу в промерзшей земле тяжело копать. Когда работал в СМУ (строительно-монтажное управление) мастером, там была возможность беспрепятственно брать материал, т.е. попросту - тащить себе. Его коллега построила на «дополнительные» возможности два дома, а дедушка ни разу ничего не своего не принёс.
До войны был бондарем, делал бочки. Был профессиональным охотником, соболевал до конца 50х годов, каждую зиму уходил на охоту на три месяца в леса, за сезон добывал 25 соболей, сдавал в промыслово-охотничье хозяйство. Из «неформатных» соболей с рыжиной делал оторочку на суконные рукавицы ребятишкам. Потом пошёл работать в леспромхоз. Охотился и рыбачил до самой старости, метко стрелял, попадал в глаз соболю, чтобы не повредить шкурку. В 1965 году из Кики его как опытного мастера перевели в Усть-Баргузин для создания производства.
Дедушка любил мастерить и придумывать: сделал аппарат для лущения шишек, табакорезку, самогонный аппарат, сделал всю мебель, которая до сих пор стоит в Усть-Баргузине. Нам сделал качельки и тарантас на колёсах из консервных банок.
Деде всю жизнь снились очень яркие сны, утром их громко рассказывал бабе.
Дедушка умер при нас, мы приехали с мамой за неделю-две до его смерти. Когда вошли в комнату, он нас не узнал, он узнавал только бабушку. Он был как новорожденный: маленький, ссохшийся, с невидящими глазами, свернулся на кровати. Дедушка не вставал с зимы. Болели ноги, а потом и жизнь стала быстро выходить, бабушка за ним ухаживала. Он отошёл от жизни, не разговаривал, никого не узнавал, но ему снились сны, и во сне он говорил, часто звал мать. Он её очень любил.
9 июля, за два дня до смерти, в Сашин день рождения, деда во сне звал Сашу: «Сашка, принеси сигарет!». Когда Саша был в Усть-Баргузине в мае 2006 года, всегда покупал дедушке творог и мороженое.
В ночь с 10 на 11 июля дедушка умер. Стукнул в стену – и умер.
Похороны были очень хорошими, душевными. Мы с мамой, бабушкой, бабой Полей и её подругой Ниной Воротниковой из Кики ехали в машине у гроба. Нина громко вспоминала, что она впервые увидела дедушку, когда ехали в Кике на работу. Он ей очень понравился, и вечером она рассказала Полине, что видела «такого бравого мужика, синеглазого ангела, спокойного такого, красивого». Полина ей сказала, что ангел этот – Шуркин муж, и как раз вчера был совсем не ангел. «А вот теперь, Миша, вот в такой машине едем, на кладбище!». За машиной по пыльной дороге шёл дядя Саша Зыбин, и от этого мне казалось, что всё правильно, всё на своих местах. Бабушка плакала, причитала над могилой: «Прощай, Миша, всю жизнь прожили, жди меня, и я к тебе приду. Только нескоро, ещё жить хочу, так что пока не рассчитывай», - и засмеялась сквозь слёзы. И это тоже было правильно, так, как надо.
Дедушка мне часто снился до мая-июня 2016 года, и мне почему-то казалось, что он оберегает Сашу. Однажды нам с Сашей приснился один и тот же сон на двоих с разницей в ночь – мы по очереди его рассказали маме, во сне приходил дедушка. Сон оказался с реальными последствиями.
Летом 2016 дедушка приснился в последний раз: он превратился в дымок и сказал, что уходит отсюда, и что Сашка остаётся без его помощи, сам. Так и случилось.
В войну же был такой случай. Аксён пришёл к своей сестре, Степаниде и увидел, что дома варят картошку. Сразу понял, что это ребятишки накопали её на колхозном поле. Написал заявление и отдал племянника, Петю, под суд, ему 14 лет было. Судья в районе был человечным, дал только полгода. Так вот, когда Аксён умер и делали ему похороны в Кике, собравшимся было неудобно: сказать что-то надо, а добрым словом не помянешь. Деда взял слово: «Ну, раз сказать нечего, скажу я… Как говорится в пословице, помер Максим – ну и х.. с ним. Помянем».
Был скромным, ничего не просил, абсолютно не был привязан к материальному: «По той же земле ходят, тот же хлеб едят», «В гробу карманов нет». Говорил, что если умрёт зимой, его нужно закопать на задах (дальняя часть огорода) в снег до весны, а весной похоронить, чтобы никого не отягощать: могилу в промерзшей земле тяжело копать. Когда работал в СМУ (строительно-монтажное управление) мастером, там была возможность беспрепятственно брать материал, т.е. попросту - тащить себе. Его коллега построила на «дополнительные» возможности два дома, а дедушка ни разу ничего не своего не принёс.
До войны был бондарем, делал бочки. Был профессиональным охотником, соболевал до конца 50х годов, каждую зиму уходил на охоту на три месяца в леса, за сезон добывал 25 соболей, сдавал в промыслово-охотничье хозяйство. Из «неформатных» соболей с рыжиной делал оторочку на суконные рукавицы ребятишкам. Потом пошёл работать в леспромхоз. Охотился и рыбачил до самой старости, метко стрелял, попадал в глаз соболю, чтобы не повредить шкурку. В 1965 году из Кики его как опытного мастера перевели в Усть-Баргузин для создания производства.
Дедушка любил мастерить и придумывать: сделал аппарат для лущения шишек, табакорезку, самогонный аппарат, сделал всю мебель, которая до сих пор стоит в Усть-Баргузине. Нам сделал качельки и тарантас на колёсах из консервных банок.
Деде всю жизнь снились очень яркие сны, утром их громко рассказывал бабе.
Дедушка умер при нас, мы приехали с мамой за неделю-две до его смерти. Когда вошли в комнату, он нас не узнал, он узнавал только бабушку. Он был как новорожденный: маленький, ссохшийся, с невидящими глазами, свернулся на кровати. Дедушка не вставал с зимы. Болели ноги, а потом и жизнь стала быстро выходить, бабушка за ним ухаживала. Он отошёл от жизни, не разговаривал, никого не узнавал, но ему снились сны, и во сне он говорил, часто звал мать. Он её очень любил.
9 июля, за два дня до смерти, в Сашин день рождения, деда во сне звал Сашу: «Сашка, принеси сигарет!». Когда Саша был в Усть-Баргузине в мае 2006 года, всегда покупал дедушке творог и мороженое.
В ночь с 10 на 11 июля дедушка умер. Стукнул в стену – и умер.
Похороны были очень хорошими, душевными. Мы с мамой, бабушкой, бабой Полей и её подругой Ниной Воротниковой из Кики ехали в машине у гроба. Нина громко вспоминала, что она впервые увидела дедушку, когда ехали в Кике на работу. Он ей очень понравился, и вечером она рассказала Полине, что видела «такого бравого мужика, синеглазого ангела, спокойного такого, красивого». Полина ей сказала, что ангел этот – Шуркин муж, и как раз вчера был совсем не ангел. «А вот теперь, Миша, вот в такой машине едем, на кладбище!». За машиной по пыльной дороге шёл дядя Саша Зыбин, и от этого мне казалось, что всё правильно, всё на своих местах. Бабушка плакала, причитала над могилой: «Прощай, Миша, всю жизнь прожили, жди меня, и я к тебе приду. Только нескоро, ещё жить хочу, так что пока не рассчитывай», - и засмеялась сквозь слёзы. И это тоже было правильно, так, как надо.
Дедушка мне часто снился до мая-июня 2016 года, и мне почему-то казалось, что он оберегает Сашу. Однажды нам с Сашей приснился один и тот же сон на двоих с разницей в ночь – мы по очереди его рассказали маме, во сне приходил дедушка. Сон оказался с реальными последствиями.
Летом 2016 дедушка приснился в последний раз: он превратился в дымок и сказал, что уходит отсюда, и что Сашка остаётся без его помощи, сам. Так и случилось.
Пётр
Петя мне годок. Он женился на Полине на спор с двоюродным братом Ванькой Заиграевым, за кого она пойдёт. Она от него потом уехала, а потом снова сошлись. Жили сначала в Кике, потом в Майске. У них Генка, Сашка и Наташка. Генка в Майске живёт. Сашку я приняла, он запутался пуповиной, весь синий был, я его размотала, пуп завязала. Полина вся измучилась. Когда скорая приехала, я уже всё сделала. Спросили, кто принимал, похвалили, поблагодарили, всё правильно сделала. Сашку зовут «Пушкин», много читает, живёт в городе, работает геологом, женат на корейке. Сашка отца не хоронил, Наташка где-то хлещется, пьёт.
Петя мне годок. Он женился на Полине на спор с двоюродным братом Ванькой Заиграевым, за кого она пойдёт. Она от него потом уехала, а потом снова сошлись. Жили сначала в Кике, потом в Майске. У них Генка, Сашка и Наташка. Генка в Майске живёт. Сашку я приняла, он запутался пуповиной, весь синий был, я его размотала, пуп завязала. Полина вся измучилась. Когда скорая приехала, я уже всё сделала. Спросили, кто принимал, похвалили, поблагодарили, всё правильно сделала. Сашку зовут «Пушкин», много читает, живёт в городе, работает геологом, женат на корейке. Сашка отца не хоронил, Наташка где-то хлещется, пьёт.

Брат Пётр (Перфил) (1929-2016)
Деда Петя жил в Майске, работал в лесу. В Кике его называли мадьяром за черные кудри и быстрые зеленые глаза. Родители назвали его Перфил, но, выписывая паспорт, он переписался на Петра – так современнее. Деду Петю мы видели в Майске в начале 2000 годов. Мы дважды ездили туда: один раз с только мамой, Саша оставался в Усть-Баргузине, второй раз втроем. В моих воспоминаниях обе поездки слились в одну.
Мы жили у деды Пети и бабы Поли. В доме у них было чисто, просторно, ни одной лишней вещи. Во дворе, настеленном досками, тоже все по уму; большая баня. Деда Петя был живенький, шустрый, шутливый, с огоньком. Все делал энергично, резко. Говорил выразительно, слова будто кидал, резко и часто посмеивался. Баба Поля была спокойная, грузная, на его фоне совсем невыразительная. У них трое детей. Внука Женьку от Наташи растили они, звали «чилимом».
На мотоцикле у деды Пети была накинута козлиная шкура, символ любви и предательства. Он взял козленка, растил его, как котенка: клал с собой спать, кормил за столом из ложечки. Козленок вырос козлом, и как-то боднул с разбегу деду Петю. Не простив удара в спину, деда Петя зарезал козла. Когда мы гостили, деда Петя выпил, и очень смешно ругался на водку, называл ее «суррогат 27». Был очень впечатлительным. Когда услышал в новостях про методы сознательного самозаражения туберкулезом в тюрьмах, живо это представил, и его вырвало.
В 50-е годы служил в Корее. Как-то на улице встретил красивую кореянку, понял, что значит «кожа цвета утренней зари» - и влюбился. И так и про неё всю жизнь помнил и даже в старости рассказывал.
Мы жили у деды Пети и бабы Поли. В доме у них было чисто, просторно, ни одной лишней вещи. Во дворе, настеленном досками, тоже все по уму; большая баня. Деда Петя был живенький, шустрый, шутливый, с огоньком. Все делал энергично, резко. Говорил выразительно, слова будто кидал, резко и часто посмеивался. Баба Поля была спокойная, грузная, на его фоне совсем невыразительная. У них трое детей. Внука Женьку от Наташи растили они, звали «чилимом».
На мотоцикле у деды Пети была накинута козлиная шкура, символ любви и предательства. Он взял козленка, растил его, как котенка: клал с собой спать, кормил за столом из ложечки. Козленок вырос козлом, и как-то боднул с разбегу деду Петю. Не простив удара в спину, деда Петя зарезал козла. Когда мы гостили, деда Петя выпил, и очень смешно ругался на водку, называл ее «суррогат 27». Был очень впечатлительным. Когда услышал в новостях про методы сознательного самозаражения туберкулезом в тюрьмах, живо это представил, и его вырвало.
В 50-е годы служил в Корее. Как-то на улице встретил красивую кореянку, понял, что значит «кожа цвета утренней зари» - и влюбился. И так и про неё всю жизнь помнил и даже в старости рассказывал.
Павел
Потом идёт Павел. Жена у него Пана[49], жили дружно. Пана умерла от худой болезни[50]. У них Сашка, Юрка[51], Серёжка.
Юрка ехал мимо кладбища на мотоцикле на сороковой день после матери, подумал о ней, врезался в дерево, аж макушка упала. Ннасмерть разбился. Осталось двое детей: Анюта, живёт в Усть-Баргузине, и Славка.
Юрина жена Наташа потом вышла замуж за его двоюродного брата, сына Антониды, Витьку, он её всегда любил, с детства. От него родила Юльку, она живёт сейчас в городе.
Потом идёт Павел. Жена у него Пана[49], жили дружно. Пана умерла от худой болезни[50]. У них Сашка, Юрка[51], Серёжка.
Юрка ехал мимо кладбища на мотоцикле на сороковой день после матери, подумал о ней, врезался в дерево, аж макушка упала. Ннасмерть разбился. Осталось двое детей: Анюта, живёт в Усть-Баргузине, и Славка.
Юрина жена Наташа потом вышла замуж за его двоюродного брата, сына Антониды, Витьку, он её всегда любил, с детства. От него родила Юльку, она живёт сейчас в городе.

Брат Павел (1932-1992 или 1993)
После смерти Паны Павлик женился на Зое[52]. Кудрявая была, поваром в лесу работала. Она его давно любила и налюбоваться не могла. Ей 48 лет было, ему 53, они Павлика смастерили. Она думала, у неё опухоль растёт, к врачу не ходила, а потом эту "опухоль" и родила.
Зоя попивала. Приехала как-то на работу с похмелья, ей дали похмелиться «рояль» неразведённый, она выпила и умерла.
Павлик ушёл жить к сыну Сашке, у него жена - литовка. То ли обидели его, то ли от тоски сходил он на могилки и в лесу повесился. Полгода не могли его найти. С осени до весны провисел, одни кости схоронили. Такой аккуратист был, чистюля, всё с веничком ходил, на речку бегал кастрюли до блеска намывал, грибы и ягоды собирал.
Пал Палыч, которого они напоследок родили, живёт сейчас в Кике, двое ребятишек у него, Ева и Андрей.
Серёжка у них уехал на БАМ и там потерялся, так его и не нашли.
Сашка живёт с Полиной нашей (Залуцкой) через стенку. У них два парня и Таня была. У Тани лет в 7 или в 9 заболела нога. Полина к ним пришла, увидела, что у девчонки воспаление пошло на ноге, вот как молния по ноге блеснула. Отвезли её в Турунтаево, сделали операцию, а она из наркоза не вышла, умерла.
Зоя попивала. Приехала как-то на работу с похмелья, ей дали похмелиться «рояль» неразведённый, она выпила и умерла.
Павлик ушёл жить к сыну Сашке, у него жена - литовка. То ли обидели его, то ли от тоски сходил он на могилки и в лесу повесился. Полгода не могли его найти. С осени до весны провисел, одни кости схоронили. Такой аккуратист был, чистюля, всё с веничком ходил, на речку бегал кастрюли до блеска намывал, грибы и ягоды собирал.
Пал Палыч, которого они напоследок родили, живёт сейчас в Кике, двое ребятишек у него, Ева и Андрей.
Серёжка у них уехал на БАМ и там потерялся, так его и не нашли.
Сашка живёт с Полиной нашей (Залуцкой) через стенку. У них два парня и Таня была. У Тани лет в 7 или в 9 заболела нога. Полина к ним пришла, увидела, что у девчонки воспаление пошло на ноге, вот как молния по ноге блеснула. Отвезли её в Турунтаево, сделали операцию, а она из наркоза не вышла, умерла.
[49] Была маленькая, аккуратненькая, весёлая, необыкновенно хозяйственная: всё чисто, настряпано, сварено, занавески вышиты, покрывала навязаны. Жили хорошо, дядя Паша был мирный, добрый, а потом почему-то стал её бить, когда выпивал. Люди говорили, что это он её бил и почки отбил, а она болела просто.
[52] Зоя всю жизнь любила Пашу за его голубые глаза, когда ещё в девках была. Она боевая, задорная, хваткая. Очень красивая: недеревенская, голубые глаза, светлые кудрявые волосы. Была замужем за двоюродным братом бабы Шуры – Колей Рудневым, но не любила его. Когда Паша овдовел, Зоя вышла за него замуж и всё не могла на него налюбоваться, жили как голубки.
Василий
Вася всю жизнь с малолетства в тюрьме, и всегда, в общем-то, ни за что. Первый раз попал, потому что разодрался. Вышел - и снова. Из тюрьмы привез Галю, она с малолетства воровала что ли, или мать её. У них родился Женька. Васю опять посадили, и Галя уехала в Усть-Илимск или куда и её там убили, что ли, или в Улан-Удэ жила.
Вася всю жизнь с малолетства в тюрьме, и всегда, в общем-то, ни за что. Первый раз попал, потому что разодрался. Вышел - и снова. Из тюрьмы привез Галю, она с малолетства воровала что ли, или мать её. У них родился Женька. Васю опять посадили, и Галя уехала в Усть-Илимск или куда и её там убили, что ли, или в Улан-Удэ жила.

Брат Василий
У Васи была жгучая внешность: смуглый, черные глаза, как смородина с маслом, блестящие, как будто его внутренний жар сжигал. Был очень тихий, говорил мало, хорошо работал в леспромхозе.
Первый раз Вася в тюрьму попал, когда в армии его офицер оскорбил, а он ударил его – и посадили. В тюрьме познакомился с Галей, которая сидела за воровство. Очень яркая талантливая женщина. Всю Кику на дыбы поставила: клуб там стал центром жизни, устраивала праздники, даже пожилые участвовали; рисовала, ставила спектакли.
У Васи огонь был в глазах, как будто его внутренний жар сжигал, хоть сам был тихий, работящий, у неё – в жизни. Всё умела делать, сшила мне пальто и форму, заплетала меня на линейку на 1 сентября. Галя сама рассказывала, что её мать в Улан-Удэ была связана с криминальным миром.
В Кике, после тюрьмы уже, Вася пошёл летом на охоту. Был запрет на отстрел изюбра, а они подстрелили его. Кажется, Ося Капустин, который всегда кастрировал поросят, противный дядька из соседней деревни, позвонил и сообщил про изюбра. Вася ещё не вернулся с охоты, и тётя Галя побежала короткими тропами (милиция и охотоведы ехали длинной дорогой), чтобы предупредить Васю, но прибежала вместе с милицией, и было поздно. Васю посадили в 1966 примерно, Женьке было года 4.
Вася пришел, женился на Розе-богомолке, привёз её из Казахстана, где срок отбывал. Комяга, неряха. Жили в Курумкане.
Наш Валера у них был, говорит: «Ой, мама, у дяди Васи пальцем негде ткнуть, грязь такая». Из Курумкана вернулись в Кику, родился у них Гена Городилов, они не регистрировались. Вася уйдёт в леспромхоз работать, а она дома сидит и даже не убирается. Простыни чёрные были, как голяшка [53]
Потом Роза заболела, увезли её в Селенгинск, там и умерла, там и закопали. Сын уже большой был. Вася жил один, Антонида ему еду таскала. Стал болеть, пролежал неделю в больнице в Турунтаево и умер. Мы с Андреем ездили его хоронить. Сын Генка живёт в Кике, женился на родне, но ничё, живут.
Сын от Гали, Женька [54], тоже сидел долго, сейчас живёт в городе, а летом тут на Глинке.
[53] Голенище сапога
[54] Женька был центром криминального мира в Улан-Удэ, он воровал. В сумме отсидел 27 лет. У него кличка – 66й. Мы видели его на Байкале, красивый и выразительный. Было жарко, но футболку не стал снимать: «Если я разденусь, все оденутся и убегут» - татуировки всё бы сказали за него. В 90-е годы сознательно «завязал» и активно занялся бизнесом, купил кирпичный завод, женился на дочке генерала, был очень респектабельный.
[54] Женька был центром криминального мира в Улан-Удэ, он воровал. В сумме отсидел 27 лет. У него кличка – 66й. Мы видели его на Байкале, красивый и выразительный. Было жарко, но футболку не стал снимать: «Если я разденусь, все оденутся и убегут» - татуировки всё бы сказали за него. В 90-е годы сознательно «завязал» и активно занялся бизнесом, купил кирпичный завод, женился на дочке генерала, был очень респектабельный.
Потом поссорился с партнёром, разодрался, сел за драку на три года. За это время жена продала всё, забрала двух дочек и уехала. Он остался без квартиры. Начал новую жизнь уже за 50. Сейчас живет с Наташей, зиму в Улан-Удэ, а с апреля по октябрь он – «смотритель Глинки», следит за порядком, чтобы не было пожаров, чтобы было чисто и т.п. Пишет стихи и «философские трактаты», очень интересный и самобытный.
Владимир
Володя до пяти лет титю сосал, за материнским подолом таскался.
После армии женился на Аннушке Она умница, добрая, красавица. Он её называл «изюминка». Жили в Майске. Игорь у них ласковый, нежный, три дочки у него. Пил, умер лет в 40 где-то в Прибайкальском районе. Когда его в Майск везли, мимо нас проезжали, но даже не заехали, мы не знали.
Олег у них инвалид, ДЦП у него. Женился, взял с ребенком жену, но не сладилось, жена убежала, а девчонку его сестра Наташа воспитывает. У Наташи самой двое, с мужем развелась: Анютка, живёт в городе, и Артёмка, учится на врача в Санкт-Петербурге.
Володя до пяти лет титю сосал, за материнским подолом таскался.
После армии женился на Аннушке Она умница, добрая, красавица. Он её называл «изюминка». Жили в Майске. Игорь у них ласковый, нежный, три дочки у него. Пил, умер лет в 40 где-то в Прибайкальском районе. Когда его в Майск везли, мимо нас проезжали, но даже не заехали, мы не знали.
Олег у них инвалид, ДЦП у него. Женился, взял с ребенком жену, но не сладилось, жена убежала, а девчонку его сестра Наташа воспитывает. У Наташи самой двое, с мужем развелась: Анютка, живёт в городе, и Артёмка, учится на врача в Санкт-Петербурге.

Брат Володя (1940-2002)
Наташа учительница, труженица, целый двор скота держит. У Володи то ли сердчишко, то ли что, умер. Аннушка, как Володю и Игоря схоронила, стала выпивать и курить, а до этого – никогда. И вот выпила, закурила одна дома, и задохлась дымом. Мы с ней общались, добрая такая была.
Антонида
Антонида с 1946 года. Когда Артамон в 45-м с армии пришёл, её принёс. Он в Маньчжурии служил, Сталин же своих годков тоже призвал.
В 19 лет родила Витьку, который теперь женат на жене Юрки, сыне Павлика. Она в городе работала и там где-то его прижила, такой ребёнок называется «суразёнок». Потом они с Полиной приехали к нам делать ей аборт, а куда ,чё – некуда уже. Витька, которого вытравить хотела, такой здоровенный парень, не пьёт, не курит.
Антонида с 1946 года. Когда Артамон в 45-м с армии пришёл, её принёс. Он в Маньчжурии служил, Сталин же своих годков тоже призвал.
В 19 лет родила Витьку, который теперь женат на жене Юрки, сыне Павлика. Она в городе работала и там где-то его прижила, такой ребёнок называется «суразёнок». Потом они с Полиной приехали к нам делать ей аборт, а куда ,чё – некуда уже. Витька, которого вытравить хотела, такой здоровенный парень, не пьёт, не курит.

Сестра Тоня (31.12.1946). Слева во втором ряду, рядом с бабой Шурой. 1-й ряд слева направо: Боря, Таня, Валера. 1956 год.
Антонида, как его родила, жила с родителями[55], приняли – куда деваться, братья тоже ничего ей не сказали, не осудили[56]. Витьке года два-три было, она вышла за Уржумова[57] охотника. Охотился он не для еды, а для куража. Лет на 15 её старше был.
От него родила Серёжку [58], и Юльку. Сережка уже десять лет инвалид – ему деревина на позвоночник в лесу упала в тот день, когда деду Мишу нашего хоронили, Тоня на похороны не приезжала. Жена у Серёжки хорошая, по молодости хулиганила, наркотики, что ли, курила, ли говорили так. Сейчас в магазине работает, а он дома на коляске.
Уржумов Тоню бил, как выпьет, за волосы таскал, диковатый был. Очень её ревновал так. Она тоже вообще-то диковатая, с характером. Они разошлись[59], она троих сама рòстила.
Потом она вышла за старика, ему лет за пятьдесят было, она ему в дочери годилась, у самого взрослые дети были[60]. Гриша на ЛВРЗ[61] начальником работал, а она мастером лес принимала. Гриша участник войны, спокойный, хороший, детей помог ей вырастить, очень её любил. Она теперь Трофимова, не Уржумова. Машину купила, Витька ездит.
От него родила Серёжку [58], и Юльку. Сережка уже десять лет инвалид – ему деревина на позвоночник в лесу упала в тот день, когда деду Мишу нашего хоронили, Тоня на похороны не приезжала. Жена у Серёжки хорошая, по молодости хулиганила, наркотики, что ли, курила, ли говорили так. Сейчас в магазине работает, а он дома на коляске.
Уржумов Тоню бил, как выпьет, за волосы таскал, диковатый был. Очень её ревновал так. Она тоже вообще-то диковатая, с характером. Они разошлись[59], она троих сама рòстила.
Потом она вышла за старика, ему лет за пятьдесят было, она ему в дочери годилась, у самого взрослые дети были[60]. Гриша на ЛВРЗ[61] начальником работал, а она мастером лес принимала. Гриша участник войны, спокойный, хороший, детей помог ей вырастить, очень её любил. Она теперь Трофимова, не Уржумова. Машину купила, Витька ездит.
[55] Когда родители умерли и встал вопрос, как делить дом, деда Миша решил за всех и прекратил разговоры: дом – Тоньке, нечего делить, она единственная девочка среди братьев, ухаживала за родителями в старости.
[56] Деда Миша очень ругался, когда бабушка что-то сказала про беременность Тони: «Она совсем девчонка, он её обманул!» Помогал ей. Дедушка вообще никого никогда не осуждал.
[56] Деда Миша очень ругался, когда бабушка что-то сказала про беременность Тони: «Она совсем девчонка, он её обманул!» Помогал ей. Дедушка вообще никого никогда не осуждал.
[57] Уржумов был красивый, каких-то благородных кровей из Центральной России, с высшим образованием.
[58] Мы его видели в Кике, он ещё молодой и здоровый был. Наверное, самый красивый человек, которого я видела: статный, улыбчивый, как солнце, зеленоглазый, кудрявый.
[58] Мы его видели в Кике, он ещё молодой и здоровый был. Наверное, самый красивый человек, которого я видела: статный, улыбчивый, как солнце, зеленоглазый, кудрявый.
[59] Было письмо, которое Уржум написал нашему дедушке: «…на кого она меня променяла, на Гришины свиные глазки!»
[60] Дедушка, когда в Кику приезжали и выпивали, Грише убедительно говорил: «Ты скоро помрёшь, а Тоня молодая, замуж выйдет» - и Гриша плакал. Вот с Гришей Тоня пожила: в достатке, уважении, труде.
[61] Локомотиво-вагоноремонтный завод, участок в Кике. Там делали шпалы.
[60] Дедушка, когда в Кику приезжали и выпивали, Грише убедительно говорил: «Ты скоро помрёшь, а Тоня молодая, замуж выйдет» - и Гриша плакал. Вот с Гришей Тоня пожила: в достатке, уважении, труде.
[61] Локомотиво-вагоноремонтный завод, участок в Кике. Там делали шпалы.
Пятеро
.
Сын Валерий (1950-1980)
Сын Борис (1951-1987)
Дочь Татьяна (род.1953)
Сын Николай (1959-1983)
Сын Андрей (род.1961)
В 1949 году с дедом жили в Пановском, на лесозаготовительном участке на реке Турке, деда работал бухгалтером в конторе. Зимой был сезон, лес валили, а весной его по реке Турке сплавляли. Кидали по течению, что приплывёт, то собирали – и на пароход. С ноября 49-го я там жила.
В январе 50-го родился Валера. Я лежала в больнице, а дед окошко отцарапал от наледи под глаз, говорит: «Покажи парнишечку. Назови его Валерий Чкалов, научу его еще до трёх лет читать!»
В январе 50-го родился Валера. Я лежала в больнице, а дед окошко отцарапал от наледи под глаз, говорит: «Покажи парнишечку. Назови его Валерий Чкалов, научу его еще до трёх лет читать!»

Михаил и Александра. Деда Миша и баба Шура.
В мае был конец сезона. Сделали большой плот, люди погрузили на него хозяйство, кур, свиней, а у нас только мы и кроватка. Река быстрая, бурная. Я только взяла Валеру пососить, и тут раз – залом, кривляк на реке, то есть зигзаг, резкий поворот, и ветка черёмухи схватила кроватку, подцепила, подняла и выбросила в реку. Никто даже опомниться, сообразить не успел.
В Турке жили у Анатолия, у них Петька маленький был, у нас – Валера, я не работала. Когда Валере 9 месяцев было, переехали в кику. Где жить? У Чебунят двенадцать человек в маленькой избе, караул!
Накануне рождения Бори, 16 января, я ездила в Гурулёво за монатками [62], как вернулись – спрыгнула с кузова грузовика. А еще до этого, 14 января, вприсядку плясала. До утра промучалась, а на утро в десять часов свекровь собралась идти на гулянку, все мужики дома. И две старухи пришли Степаниду ждать.
После свадьбы Осипа даже кровать в дом не затащили, всё на пол, на полу тут же и родила. Пришла Феонья, повитуха, мать Артамона. Холодно в избе было, аж окошко обмерзло. Феонья держит Борю на руках, а от него пар идёт. Феонья кричит: «Дайте во что парнишку завернуть», а у меня ничего нет, ну то есть вообще ничего. А свекровь ушла, ей всё равно. Ульяна, молодая, тряпку притащила, Борю завернули. Притащили лоханку, помыли его.
Дед наш поехал в Гурулёво за военным врачом. А в деревне говорят, что Шурка урода родила! Плясала же, с машины прыгала. Врач приехал, говорит: «Да кто сказал, урода? Вон какой мальчик!». А Боря славный был, ручки-ножки крепкие, как перетянутые сразу же. Через три дня у него по телу нарывы пошли, он простыл, как родился. Спал на столе, негде было. В четыре месяца упал со стола, весь разбился, из носика кровь шла.
Артамон спал в бане, негде было. Очень любил пить чай, Степанида на него ругалась: «Дудка, всё никак не напивашься». А он ругался: «Понабрала их всю избу, понаплодили». А мне каково это слушать.
Как-то раз сосила Бою, а Валере годик с небольшим. На печке у нас валенки, портянки сушились. Степанида его на печку посадила, а сама ушла, мне не сказала. А он на занавеску навалился и грохнулся. Вот страху мне было! Но ничего, не разбился.
В Турке жили у Анатолия, у них Петька маленький был, у нас – Валера, я не работала. Когда Валере 9 месяцев было, переехали в кику. Где жить? У Чебунят двенадцать человек в маленькой избе, караул!
Накануне рождения Бори, 16 января, я ездила в Гурулёво за монатками [62], как вернулись – спрыгнула с кузова грузовика. А еще до этого, 14 января, вприсядку плясала. До утра промучалась, а на утро в десять часов свекровь собралась идти на гулянку, все мужики дома. И две старухи пришли Степаниду ждать.
После свадьбы Осипа даже кровать в дом не затащили, всё на пол, на полу тут же и родила. Пришла Феонья, повитуха, мать Артамона. Холодно в избе было, аж окошко обмерзло. Феонья держит Борю на руках, а от него пар идёт. Феонья кричит: «Дайте во что парнишку завернуть», а у меня ничего нет, ну то есть вообще ничего. А свекровь ушла, ей всё равно. Ульяна, молодая, тряпку притащила, Борю завернули. Притащили лоханку, помыли его.
Дед наш поехал в Гурулёво за военным врачом. А в деревне говорят, что Шурка урода родила! Плясала же, с машины прыгала. Врач приехал, говорит: «Да кто сказал, урода? Вон какой мальчик!». А Боря славный был, ручки-ножки крепкие, как перетянутые сразу же. Через три дня у него по телу нарывы пошли, он простыл, как родился. Спал на столе, негде было. В четыре месяца упал со стола, весь разбился, из носика кровь шла.
Артамон спал в бане, негде было. Очень любил пить чай, Степанида на него ругалась: «Дудка, всё никак не напивашься». А он ругался: «Понабрала их всю избу, понаплодили». А мне каково это слушать.
Как-то раз сосила Бою, а Валере годик с небольшим. На печке у нас валенки, портянки сушились. Степанида его на печку посадила, а сама ушла, мне не сказала. А он на занавеску навалился и грохнулся. Вот страху мне было! Но ничего, не разбился.
[62] За вещами
Один раз они чуть не сгорели, Валера с Борей.
Дедушка ушёл на охоту, а я за него работала на смолокурке, тут смолу, дёготь гнали. Мы жили в зимовейке на базе, маленькая комнатка была. Я утром их на свою кровать положила, пошла смолу черпать, печку подбрасывать, затопила печку-плиту. И пока я там дрова набросала, смолу начерпала. Набежало целое корыто, и сердце что-то и не ёкнуло. Прихожу домой, дверь открываю: дом полон дыму, вся изба, ничего не видать!
Они под одеяло залезли, на кровати лежат оба в дыму. Ещё б маленько – они б задохлись. А сверху было одеялко детское, а пододеяльник был марлевый, и он загорел, а там ещё одеяло было. Ох, Господи, я их скорее на улицу выбросила, а там огнём вспыхнуло всё. Я в снегу зарыла. Говорю: «Чё так-то?», а Валера мне рассказывает, что Боря взял лучинку, щепочку, в печке поджёг – он маленький был, годика два ему, такой шкодник был, а Валере три - и с лучинкой на кровать залез. Пододеяльник марлевый загорел, вот они под другое одеяло залезли обои. Но бог миловал. Даже одеяло второе, которым ни накрылись, не сгорело.
Дедушка ушёл на охоту, а я за него работала на смолокурке, тут смолу, дёготь гнали. Мы жили в зимовейке на базе, маленькая комнатка была. Я утром их на свою кровать положила, пошла смолу черпать, печку подбрасывать, затопила печку-плиту. И пока я там дрова набросала, смолу начерпала. Набежало целое корыто, и сердце что-то и не ёкнуло. Прихожу домой, дверь открываю: дом полон дыму, вся изба, ничего не видать!
Они под одеяло залезли, на кровати лежат оба в дыму. Ещё б маленько – они б задохлись. А сверху было одеялко детское, а пододеяльник был марлевый, и он загорел, а там ещё одеяло было. Ох, Господи, я их скорее на улицу выбросила, а там огнём вспыхнуло всё. Я в снегу зарыла. Говорю: «Чё так-то?», а Валера мне рассказывает, что Боря взял лучинку, щепочку, в печке поджёг – он маленький был, годика два ему, такой шкодник был, а Валере три - и с лучинкой на кровать залез. Пододеяльник марлевый загорел, вот они под другое одеяло залезли обои. Но бог миловал. Даже одеяло второе, которым ни накрылись, не сгорело.

Сыновья Валера и Боря
Как-то в очереди стяла до утра, три яблока дали и сахару. Валера был маленький, Боря тоже. А они не знают, что такое яблоки. Они сели и катают их туда-сюда, как мячики. Вот такая жизнь была, это был 52-й год.
Мы от стариков когда ушли жить, Валере было два годика, а Боре – годик, это был 53-й год, Тани ещё не было. Сказали, что Сталин умер. Ой, я так плакала, надо же, плакала горькими слезами.
А потом сказали, что он «узюрпатор», ну кровопийца то есть, он сколько людей погубил. Культ личности ему приписали. Он войну выдержал вон какую. А дедушка не плакал, не расстроился, он знал.
Мы от стариков когда ушли жить, Валере было два годика, а Боре – годик, это был 53-й год, Тани ещё не было. Сказали, что Сталин умер. Ой, я так плакала, надо же, плакала горькими слезами.
А потом сказали, что он «узюрпатор», ну кровопийца то есть, он сколько людей погубил. Культ личности ему приписали. Он войну выдержал вон какую. А дедушка не плакал, не расстроился, он знал.
Валера, когда ему 9 месяцев было, он титю бросил. У меня молоко было жидко совсем, он не насасывался и всё время ревел. А когда мы приехали к свекровке-то, она говорит: «Он у вас голодный, поэтому ревёт». Она ему хлеба намочит с сахаром, и в большую марлю затолкает – и он её насасывает. И всё, парень замолчал.
А чем кормили, чем попало. Потом мясо ему давали: кусок мяса звериного ему затолкаешь – он сосёт. Кашку варили, манку, овсянки тогда не было, жёлтенькую цеплячью – пшенку. Из хлеба тюрю делали: молока скипятишь и хлеб размочишь.
Валера маленький плакал, а Боря спокойный был. И Валера его везде за руку, нигде не бросал, дружненько. И все их куклятами звали. Играют-играют во дворе, а Боря ляжет и так и уснёт на солнышке. Валера до четырёх лет не говорил, пе-ме только. Придёт и говорит: «Тамя тёля пи», значит «там Боря спит». Я пошла туда, а он на брёвнушко головушку положил и спит, я его домой на руках принесла. Они не дрались, дружны были.
А чем кормили, чем попало. Потом мясо ему давали: кусок мяса звериного ему затолкаешь – он сосёт. Кашку варили, манку, овсянки тогда не было, жёлтенькую цеплячью – пшенку. Из хлеба тюрю делали: молока скипятишь и хлеб размочишь.
Валера маленький плакал, а Боря спокойный был. И Валера его везде за руку, нигде не бросал, дружненько. И все их куклятами звали. Играют-играют во дворе, а Боря ляжет и так и уснёт на солнышке. Валера до четырёх лет не говорил, пе-ме только. Придёт и говорит: «Тамя тёля пи», значит «там Боря спит». Я пошла туда, а он на брёвнушко головушку положил и спит, я его домой на руках принесла. Они не дрались, дружны были.
В четыре года у Валеры инфаркт был. Он случился, когда Колю Осиного хоронили, наш дед ему гробик сделал. Тане три месяца было, у меня заболела печень, лежала в больнице. Дети натосковались, Валера с тоски заболел – и вот инфаркт миокарда, у Бори – двустороннее воспаление лёгких.
Ко мне в больницу приехали: «У тебя оба сына помирают», я так и не долечилась, вернулась. Валера спал и спал, температура 39-40, не ел сутки. Доктор Бондаренко, военный врач, сказал: «Если есть попросит, будет жить. Если до 12 лет доживёт – то долго жить будет, ничего ему не сделается». Ночь ночевали. В избе куры, поросёнок, а тут Валера сам из комнаты шагает ко мне на кухню, да такой большой показался: «Мама, я кушать хочу. Пельменей и черемухи». Сварила ему пельменей, мы их магазине коробками брали, ягоды не было, Дуся принесла моченую с сахаром.
В 12 лет Валера с кедра упал, когда в Кике в орешник ходил. Друг его 4 километра на себе нёс. Петька, дедушкин брат, прибежал, говорит, Валера без сознания. Мы с дедушкой с покоса два километра прибежали, он лежит в уме, а ходить не может. Скорой нет. Мы с дедом его в кабине на КРАЗе в больницу повезли, голова у меня на коленях, ноги – у дедушки. Через 15 километров скорая навстречу идёт, остановили. Врач положил его на носилки, сказал везти домой и пусть лежит на досках. А потом уже рентген сделали. Всё нормально, вырос какой здоровый, сильный, спортсмен, сколько плавал – и надо же так утонуть (Валера утонул в Усть-Илимске. На день молодёжи переплывал на спор Ангару. Он хорошо плавал, на флоте служил. У него в воде захлопнулось лёгкое, мгновенно умер).
Ко мне в больницу приехали: «У тебя оба сына помирают», я так и не долечилась, вернулась. Валера спал и спал, температура 39-40, не ел сутки. Доктор Бондаренко, военный врач, сказал: «Если есть попросит, будет жить. Если до 12 лет доживёт – то долго жить будет, ничего ему не сделается». Ночь ночевали. В избе куры, поросёнок, а тут Валера сам из комнаты шагает ко мне на кухню, да такой большой показался: «Мама, я кушать хочу. Пельменей и черемухи». Сварила ему пельменей, мы их магазине коробками брали, ягоды не было, Дуся принесла моченую с сахаром.
В 12 лет Валера с кедра упал, когда в Кике в орешник ходил. Друг его 4 километра на себе нёс. Петька, дедушкин брат, прибежал, говорит, Валера без сознания. Мы с дедушкой с покоса два километра прибежали, он лежит в уме, а ходить не может. Скорой нет. Мы с дедом его в кабине на КРАЗе в больницу повезли, голова у меня на коленях, ноги – у дедушки. Через 15 километров скорая навстречу идёт, остановили. Врач положил его на носилки, сказал везти домой и пусть лежит на досках. А потом уже рентген сделали. Всё нормально, вырос какой здоровый, сильный, спортсмен, сколько плавал – и надо же так утонуть (Валера утонул в Усть-Илимске. На день молодёжи переплывал на спор Ангару. Он хорошо плавал, на флоте служил. У него в воде захлопнулось лёгкое, мгновенно умер).
Таня тоже спокойная была, водилась с младшими. Они раз пошли на каток, на горку, она ещё не училась, однако. Я в бане стиралась после работы. Таня покатилась с горки, а на неё все сделали кучу малу, и ножку вывихнули, ножка вылетела в бедре, она упала. А тётка Капа, соседка, шла за водой, она её притащила. Ох, караул, что делать? А там был костоправ старик, мы его позвали, он ей, бедной, ногу налаживал, а она аж описалась. Чем-то намазал, никуда, ни в больницу, не ходили. А потом нога дала о себе знать. Таня всё то упадёт, то занозку посадила раз в ножку, и она болела у ей долго.
А раз она пошла с молоком. У меня учителя молоко помесячно брали, и ей отдали деньги. Она обратно шла, там лава была – воду черпали – и она на лаву встала, а деньги выпали, она и не заметила. Она потом домой приходит, хвать – а денег нету! Так заплакала, пошла искать. А я говорю: "Да не надо, доча".
А раз она пошла с молоком. У меня учителя молоко помесячно брали, и ей отдали деньги. Она обратно шла, там лава была – воду черпали – и она на лаву встала, а деньги выпали, она и не заметила. Она потом домой приходит, хвать – а денег нету! Так заплакала, пошла искать. А я говорю: "Да не надо, доча".
После Тани 6 лет я не рожала, хулиганила, аборты делала, очень много. Тогда медицинских не было, криминальные только. Я делала у тёти одной, а она потом говорит: «Ты чё, каждый день ко мне будешь таскаться?» - и научила самой делать. От одного я чуть не померла. Чудом жива осталась, страшное дело.
Я когда сделала, дедушка на рыбалку уехал, в отпуске был. Мы сено накосили, всё сделали, а я вот это сотворила всё. Меня всю ночь кровило, во мне осталось 17 процентов крови всего.
Я когда сделала, дедушка на рыбалку уехал, в отпуске был. Мы сено накосили, всё сделали, а я вот это сотворила всё. Меня всю ночь кровило, во мне осталось 17 процентов крови всего.

Шура, Михаил, дети Валера, Таня, Боря (стоит). 1954 год.
И потом ещё неделю дома была. Это вот было в субботу, и в другой понедельник – я не могу, вся опухла. Ребятишек надо в школу провожать, Валера уже во второй класс ходил, он рано пошёл, и Боря должен идти в первый класс. А потом пришла невестка и говорит: «Ты чо, Шурка, думашь, сдохнешь, оставишь троих».
Ходила грузовая такси, брезентом крыта, а дождь лил, я за мост туда ушла, села, приехала в больницу в Турунтаево 45 километров. Там приёма нету, а я села у регистратуры в уголочек и сижу, у меня уже движенья нет никакого.
Подошла ко мне медработник, говорит:
- Вы откуда, чего сидите? Кто вас сопровождал?
- Из Кики, никто не сопровождал, сама приехала.
- А вы кровите?
- Нет.
А я бледная уже как смерть. Она меня сразу под руки и повела, и говорит: «Врач спросит, кровишь – нет, говори, что кровишь; если скажешь, что нет, тебе делать ничего не будут, а тебе скоблёжку надо делать. А нет - сдохнешь».
Положили меня потом, девять человек в палате, меня все боялись, что помру, бледная, крови совсем ничего нету. Стали брать анализ на кровь, а её нету, не течёт, как марганцовку жиденькую набрали чё-то маленько, и сразу же мне системы поставили, капельницы. И наутро меня понесли очистку делать, у меня уже заражение пошло, они когда открыли - хирург там, гинеколога не было, и детский врач – наставили мне уколы, так когда матку открыли, запах вообще караул, и говорят: «Как она выжила?! За счёт сердца только, здоровое».
Спрашивают:
- Сколько у тебя детей?
- Трое
- А почему ты не приехала?
Тогда законно же было уже, по 50 рублей заплòтишь, там сделают, а то оставила сиротами бы их. Ну и всё, поскоблили меня, и всё.
Это было до Коли после Тани. Потом Коленька родился в 59 году, беременность хорошо отходила, дома его родила. Мне сказали: «Не надо дома рожать, надо тебе в больницу», а у меня трое детей – куда я их оставлю? Тут коровы, свиньи, курицы – всё. И Колю в новом доме уже родила, Бог миловал.
А когда Андрюшей беременная была, у меня рука не поднялась – никак, вот знаешь, Оля, никак, не смогла. Андрюша тоже дома родился.
Дедушке я не рассказывала, что делала. Когда он на рыбалку тогда поехал, говорит: «Не вздумай чё-то делать, сколько будет, столько и рожай». И вот когда Коленька родился, так дедушка радовался, по улице кричал: «Четвёртый король родился, четвёртый король родился!» И потом звал его «годок».
Дедушка маленьких любил, очень даже. Везде их с собой брал, на моторолке катал, на рыбалку. Ребятишек любил, особенно Таню, доча родилась. А Танечке и досталось: Андрюху на спине везёт, а Колю за руку держит. Мы идём с покоса, а они как «Дети в грозу» сидят на мосту, караулят, когда мы придём.
У нас в то время голубь жил. А дедушка в блюдце водки нальёт и хлеба накрошит. Голубь наклевался, напился, и давай ко всем драться, на всех кидаться – вообще чудо.
Ходила грузовая такси, брезентом крыта, а дождь лил, я за мост туда ушла, села, приехала в больницу в Турунтаево 45 километров. Там приёма нету, а я села у регистратуры в уголочек и сижу, у меня уже движенья нет никакого.
Подошла ко мне медработник, говорит:
- Вы откуда, чего сидите? Кто вас сопровождал?
- Из Кики, никто не сопровождал, сама приехала.
- А вы кровите?
- Нет.
А я бледная уже как смерть. Она меня сразу под руки и повела, и говорит: «Врач спросит, кровишь – нет, говори, что кровишь; если скажешь, что нет, тебе делать ничего не будут, а тебе скоблёжку надо делать. А нет - сдохнешь».
Положили меня потом, девять человек в палате, меня все боялись, что помру, бледная, крови совсем ничего нету. Стали брать анализ на кровь, а её нету, не течёт, как марганцовку жиденькую набрали чё-то маленько, и сразу же мне системы поставили, капельницы. И наутро меня понесли очистку делать, у меня уже заражение пошло, они когда открыли - хирург там, гинеколога не было, и детский врач – наставили мне уколы, так когда матку открыли, запах вообще караул, и говорят: «Как она выжила?! За счёт сердца только, здоровое».
Спрашивают:
- Сколько у тебя детей?
- Трое
- А почему ты не приехала?
Тогда законно же было уже, по 50 рублей заплòтишь, там сделают, а то оставила сиротами бы их. Ну и всё, поскоблили меня, и всё.
Это было до Коли после Тани. Потом Коленька родился в 59 году, беременность хорошо отходила, дома его родила. Мне сказали: «Не надо дома рожать, надо тебе в больницу», а у меня трое детей – куда я их оставлю? Тут коровы, свиньи, курицы – всё. И Колю в новом доме уже родила, Бог миловал.
А когда Андрюшей беременная была, у меня рука не поднялась – никак, вот знаешь, Оля, никак, не смогла. Андрюша тоже дома родился.
Дедушке я не рассказывала, что делала. Когда он на рыбалку тогда поехал, говорит: «Не вздумай чё-то делать, сколько будет, столько и рожай». И вот когда Коленька родился, так дедушка радовался, по улице кричал: «Четвёртый король родился, четвёртый король родился!» И потом звал его «годок».
Дедушка маленьких любил, очень даже. Везде их с собой брал, на моторолке катал, на рыбалку. Ребятишек любил, особенно Таню, доча родилась. А Танечке и досталось: Андрюху на спине везёт, а Колю за руку держит. Мы идём с покоса, а они как «Дети в грозу» сидят на мосту, караулят, когда мы придём.
У нас в то время голубь жил. А дедушка в блюдце водки нальёт и хлеба накрошит. Голубь наклевался, напился, и давай ко всем драться, на всех кидаться – вообще чудо.
Коля был немного как нервный от ревности. Ему год и 11 месяцев было, когда Андрюха родился. Я начну его целовать, обнимать, сосить, а он смотрит и говорит: «Ага, Андюську так целуете, а меня так нет!». А его тоже целую, а он вихрастый такой, беленький. С Андрюхой они потом дрались, постарше, в школе.
Коле было лет пять, а Андрюше годика три, и Коля считал, что он взрослый, большой, Андрюшу с собой не брал. Петя, Полинин, постарше Коли на два года был.
Коля взял дедушкин охотничий ножик острый, и они пошли в лес, Андрюшу не берут. Он за ними бегом, догнал. Зашли в лесок, там пень, а на пне бегали мураши. И они давай ножиком рубить мурашей на пне. Коля пальчиком показывает: «Вот, вот, мураш, мураш», а Петя его секанул и отрубил пальчик совсем, с ногтём, он на одной жилке у него болтается.
Он прибежал домой весь в крови! Я так испугалась! Как схватила его за пальчик, зажала и повела его на медпункт далёко, за мостом. И руку не отпускаю. Пришли к медичке домой, а она мою руку разжать не может, и я не могу. Потом разжала, пальчик завязала, чем-то намазала, обработала – и всё. И ты знаешь, он у него прирос! Я с испугу горячая была, и пока шли, он прилип и зарос, всё приросло, потом только совсем чуть-чуть кривой был.
Андрюше года два было. Мода была над кроватью фотокарточки в застеклённой раме вешать, между портретов. Он лежал на кровати и кидал, и кидал валенок, попадал в рамку. И попал же! Рамка слетела, упала о кондырь, стекло разбилось, и ему стеколка клином прямо вот сюда, ниже глаз, где веко, заткнулась. Ой, караул! Я подскачила, в добрый час, выдернула стеколку, и прилепили ему подкустку – трава такая есть. Как не в глаз, Господи, прямо в мягкое место, как от кости повыше! Но ничего, Бог миловал.
Потом годика три ему было, мы пришли с покоса, в конце июля это было. Дедушка литовки отбил, я пока ужин готовила, смотрю – Андрюшка бежит весь в крови, уронил эту косу, и переносицу она ему перерубила, хрящик. Он молоденький, три годика. Схватила его за нос, прижала, опять же эту подкустку положили, ни к врачу, никуда не ходили. Ну и зажило у него, до сих пор и под глазом, и на переносице шрам есть.
А когда мы переехали в Усть-Баргузин, ему годика четыре было. У меня утюг сломался, сделалось что-то. Андрюша взял его и давай чинить чего-то. А потом включил, и свет угас везде, вырубило всё. А Валера с Борей печатали фотографии в бане, и всё везде замкнуло. Вот так он в четыре года утюг отремонтировал!
Коле было лет пять, а Андрюше годика три, и Коля считал, что он взрослый, большой, Андрюшу с собой не брал. Петя, Полинин, постарше Коли на два года был.
Коля взял дедушкин охотничий ножик острый, и они пошли в лес, Андрюшу не берут. Он за ними бегом, догнал. Зашли в лесок, там пень, а на пне бегали мураши. И они давай ножиком рубить мурашей на пне. Коля пальчиком показывает: «Вот, вот, мураш, мураш», а Петя его секанул и отрубил пальчик совсем, с ногтём, он на одной жилке у него болтается.
Он прибежал домой весь в крови! Я так испугалась! Как схватила его за пальчик, зажала и повела его на медпункт далёко, за мостом. И руку не отпускаю. Пришли к медичке домой, а она мою руку разжать не может, и я не могу. Потом разжала, пальчик завязала, чем-то намазала, обработала – и всё. И ты знаешь, он у него прирос! Я с испугу горячая была, и пока шли, он прилип и зарос, всё приросло, потом только совсем чуть-чуть кривой был.
Андрюше года два было. Мода была над кроватью фотокарточки в застеклённой раме вешать, между портретов. Он лежал на кровати и кидал, и кидал валенок, попадал в рамку. И попал же! Рамка слетела, упала о кондырь, стекло разбилось, и ему стеколка клином прямо вот сюда, ниже глаз, где веко, заткнулась. Ой, караул! Я подскачила, в добрый час, выдернула стеколку, и прилепили ему подкустку – трава такая есть. Как не в глаз, Господи, прямо в мягкое место, как от кости повыше! Но ничего, Бог миловал.
Потом годика три ему было, мы пришли с покоса, в конце июля это было. Дедушка литовки отбил, я пока ужин готовила, смотрю – Андрюшка бежит весь в крови, уронил эту косу, и переносицу она ему перерубила, хрящик. Он молоденький, три годика. Схватила его за нос, прижала, опять же эту подкустку положили, ни к врачу, никуда не ходили. Ну и зажило у него, до сих пор и под глазом, и на переносице шрам есть.
А когда мы переехали в Усть-Баргузин, ему годика четыре было. У меня утюг сломался, сделалось что-то. Андрюша взял его и давай чинить чего-то. А потом включил, и свет угас везде, вырубило всё. А Валера с Борей печатали фотографии в бане, и всё везде замкнуло. Вот так он в четыре года утюг отремонтировал!
Я пятерых родила и ни один раз в декрете не была.
Валера родился. Ему год и пять дней – Боря родился, а куда пойдёшь. Потом дедушка состроил место, где жить то ли в бане, то ли где. Он потом там печку склал, окошки застеклил, мы там жили с 51-го по 53-й. А потом деда отстроил бондарку, и там у нас родилась доча Таня.
Там потом у нас сделался надомный ларёк, отгородили, и я там торговала, а Таня ходила, ползала ко мне в магазин, конфетами шуршала. Там пожар случился, нас эвакуировали, и стали мы строить свой дом. В 54-м году приехал леспромхоз, понаехали всякие разные, тракторы, дедушка работал в леспромхозе, лес навозили и опять давай дом строить. Бабушка Стёпа нам тёлку отдала, мы поросюшку купили, она опоросилась, двенадцать поросят принесла, мы этих поросят продали.
Мы перешли в дом в 57-м году, в свой уже. Деда там застеклил, сам рамы сделал, сам поставил, а потом стал у меня просить на четушку, ну, выпить, он пьяный был, а я ему не дала. Он взял лопату и все пять окошек выстегал напрочь лопатой. Потом сам же стеклил и снова рамы делал. Караул!
Валера родился. Ему год и пять дней – Боря родился, а куда пойдёшь. Потом дедушка состроил место, где жить то ли в бане, то ли где. Он потом там печку склал, окошки застеклил, мы там жили с 51-го по 53-й. А потом деда отстроил бондарку, и там у нас родилась доча Таня.
Там потом у нас сделался надомный ларёк, отгородили, и я там торговала, а Таня ходила, ползала ко мне в магазин, конфетами шуршала. Там пожар случился, нас эвакуировали, и стали мы строить свой дом. В 54-м году приехал леспромхоз, понаехали всякие разные, тракторы, дедушка работал в леспромхозе, лес навозили и опять давай дом строить. Бабушка Стёпа нам тёлку отдала, мы поросюшку купили, она опоросилась, двенадцать поросят принесла, мы этих поросят продали.
Мы перешли в дом в 57-м году, в свой уже. Деда там застеклил, сам рамы сделал, сам поставил, а потом стал у меня просить на четушку, ну, выпить, он пьяный был, а я ему не дала. Он взял лопату и все пять окошек выстегал напрочь лопатой. Потом сам же стеклил и снова рамы делал. Караул!
Дедушка контуженый был, ему пить нельзя было, а как подопьёт, так всё. А трезвый очень мирный, спокойный. На работе он стахановец был, вечером подопьёт, а утром в 7 на работу как штык.
А печку когда клал, сколько кирпичей, столько и бутылок выпил.
Один раз было это на первое мая, или второе, собирались всегда у нас в гостях. Володя с Аннушкой, Петя пришли, посидели, разошлись. А мы купили моторолку. Ребятишки маленькие были, Коле было четыре годика, Андрюхе – два. Все гости ушли, а Миша их посадил на моторолку и поехал. И в забор стукнулся. Да! Ой, тут хоть ладно тётка Капа Молчанова шла – караул!
А печку когда клал, сколько кирпичей, столько и бутылок выпил.
Один раз было это на первое мая, или второе, собирались всегда у нас в гостях. Володя с Аннушкой, Петя пришли, посидели, разошлись. А мы купили моторолку. Ребятишки маленькие были, Коле было четыре годика, Андрюхе – два. Все гости ушли, а Миша их посадил на моторолку и поехал. И в забор стукнулся. Да! Ой, тут хоть ладно тётка Капа Молчанова шла – караул!

А потом пришёл Володя и вытащил из моторолки какой-то шланг и мне отдал: спрячь и не давай. Я его спрятала. Пошла корову доить, а дедушка из-под стула как пинкаря мне даст! Я под корову упала, с подойником, и всё, покою никакого нет.
У нас чушки были, я взяла ведро и пошла к маме труху собирать, а он не отстаёт от меня: дай и всё шланг, ехать ему надо! Потом чё делать? Он меня ударил, а я не растерялась, и этим ведром как ширанула ему, и прямо в лоб, и рассекла ему лоб-то. А на ём была новая рубаха в клетку, короткий рукав. Коля с Андрюхой тут коло меня, все в крове', а я упала и телогрейкой закрылась и лежу. А Валька Угрюмовска, соседка через забор, видит: ребятишки все в крове'! Старшие на крыше стояли, Валера и Боря, а Таня где была – не помню, лет ей 10 было уж однако.
Я лежу, а Валя эта побежала к маме, она рядом жила, и говорит: «Тётка Риммонья, Михаил Шуру убил! Она лежит на полу, ребятишки в крове', он в крове', ой караул!». Мама прибежала, испугалася. Я выскочила за ограду, а он меня догнал, как меня поймал – и об забор, головой моей об забор, а своей головой меня в грудь на калган вот так.
Мама прибежала, Полина, отобрали меня, всё. Он потом ушёл к матери. А мы заложились, на палку закрыли, чтоб он не пришёл. А утром я встать не могу, он мне всю грудь-то отбил. Потом приходит дядя Ося: «Вот, а если б ты его убила?!» Я говорю: «А если б он меня убил? Ребятишек оставили бы сиротами?». Потом мама пришла, корову подоила.
И развод. Приезжали из поссовета, разбирались, что вот он, вояка, стахановец, да так разве можно делать. Ну всё, развод, не будем вместе жить, не приходи. Ну чё потом, помирились. Потом приехал председатель поссовета, он (дедушка) подписку дал, что не будет такого больше. А что сделать, куда деваться, пятеро ребятишек. Ну и потом помирились. И он потом добрый стал, не стал больше так делать.
Всякое бывает. Всяким перышком полиняла, и синим, и красным, и зелёным.
У нас чушки были, я взяла ведро и пошла к маме труху собирать, а он не отстаёт от меня: дай и всё шланг, ехать ему надо! Потом чё делать? Он меня ударил, а я не растерялась, и этим ведром как ширанула ему, и прямо в лоб, и рассекла ему лоб-то. А на ём была новая рубаха в клетку, короткий рукав. Коля с Андрюхой тут коло меня, все в крове', а я упала и телогрейкой закрылась и лежу. А Валька Угрюмовска, соседка через забор, видит: ребятишки все в крове'! Старшие на крыше стояли, Валера и Боря, а Таня где была – не помню, лет ей 10 было уж однако.
Я лежу, а Валя эта побежала к маме, она рядом жила, и говорит: «Тётка Риммонья, Михаил Шуру убил! Она лежит на полу, ребятишки в крове', он в крове', ой караул!». Мама прибежала, испугалася. Я выскочила за ограду, а он меня догнал, как меня поймал – и об забор, головой моей об забор, а своей головой меня в грудь на калган вот так.
Мама прибежала, Полина, отобрали меня, всё. Он потом ушёл к матери. А мы заложились, на палку закрыли, чтоб он не пришёл. А утром я встать не могу, он мне всю грудь-то отбил. Потом приходит дядя Ося: «Вот, а если б ты его убила?!» Я говорю: «А если б он меня убил? Ребятишек оставили бы сиротами?». Потом мама пришла, корову подоила.
И развод. Приезжали из поссовета, разбирались, что вот он, вояка, стахановец, да так разве можно делать. Ну всё, развод, не будем вместе жить, не приходи. Ну чё потом, помирились. Потом приехал председатель поссовета, он (дедушка) подписку дал, что не будет такого больше. А что сделать, куда деваться, пятеро ребятишек. Ну и потом помирились. И он потом добрый стал, не стал больше так делать.
Всякое бывает. Всяким перышком полиняла, и синим, и красным, и зелёным.
И хорошее было, плохого мало было, добро. Он и за ягодой, и за грибами, и на рыбалку, и зверя сколько перебил: мы без мяса не жили, без рыбы не жили. Когда в леспромхоз приехали всякие разные, у нас и молоко брали, и картошку у нас копали, нас зажиточными считали.
Так-то дедушка добрый был, трезвый когда. Ребятишек сроду не трогал, никого не бил никогда. Трудолюбивый был. Всё умел: и сапоги сошьёт, и валенки подошьёт, руки золоты были, и печку складёт, и рамы сделает, и кадушки делал – всё как есть делал. Царство ему небесное.
Я всегда очень сильная была, ничего не боялась, кроме грозы. Мама, когда нас ругала, говорила: «Да чтоб вас громом всех расщепало!» И змей ещё боюсь, и больше ничего.
Так-то дедушка добрый был, трезвый когда. Ребятишек сроду не трогал, никого не бил никогда. Трудолюбивый был. Всё умел: и сапоги сошьёт, и валенки подошьёт, руки золоты были, и печку складёт, и рамы сделает, и кадушки делал – всё как есть делал. Царство ему небесное.
Я всегда очень сильная была, ничего не боялась, кроме грозы. Мама, когда нас ругала, говорила: «Да чтоб вас громом всех расщепало!» И змей ещё боюсь, и больше ничего.

Двуногая крыса
Мне было пять лет, это был 34-й год, мы ещё в Гурулёвой жили, где родина моя. У нас было четыре парнишки и я одна девчонка, Полины не было ещё.
Дядя Платон, мамин брат, он чё-то долго не женился, а потом с тремя взял, большие дети. Они выросли все, разошлись. А они с бабушкой Натальей жили в Хаиме. И он меня всегда возил к себе на кошёлке, в тулуп завернёт меня. Привёз меня зимой туда, в Хаим, от Гурулёво 30 километров. Дядя ушёл на охоту. Он зверей бил, белок бил, а тётка Наталья стряпала хлеб в русской печке, и делала сверху чем мазать – яичко на сметане наладила. Хлеб спёкся, она его вытащила, на скамейку поставила, закрыла тряпкой, полотенцем. И молоко с вечера настоялось, пенку в русской печке плавили.
Я не выдержала, говорю себе: "Ну попробуй!" Взяла я хлебик, корочку – ой вкусно! Тётя куда-то ушла, меня замкнула. Я одна, чё делать? Остальную булку ободрала, потом смотрю – молоко стоит, а пенка-то какая! И попробовала, и попробовала, и всё уговорила, всё съела. Чё делать?
Она потом приходит, хватилась, и говорит:
- Ой, чё-то булки-то ободраны
А я ей говорю:
- Ой, тётка Наталья, ты знаешь, крыса вот с таким хвостом приходила! (а хоть бы где крысу-то видела, я их сроду не видела). Я думаю, чё это у ней, смотрю, а она объедат! А я побоялась, под одеяло залезла и боюсь.
Ну, вру ей. Потом она стала чай варить, и говорит:
- Ой, пенки-то тоже крыса съела?
А я ей:
- Да-да, я забыла тебе сказать, она ободрала, а потом пить захотела, залезла в кастрюлю и выпила все пенки.
Потом приходит дядя вечером. Сели ужинать, а она ему говорит: «Дядь, у нас крыса завелась двуногая, с большим хвостом, булки унесла, пенки все съела». А мне стыдно, что я соврала, стыдно! Я молчу сижу. И решилась я убежать. Дядя говорит: «Надо было крысу-то наказать».
Я подумала, что меня бить будут. Я выскочила из-за стола, есть ничего не стала, мне стыдно, а обутки – ичеги были, я их надела. Мне спрашивают: «Ты куда?» «Да на улицу». А зима, холодина, дядя говорит: «Вон там ведро, в ведро пописай, не ходи на улицу и ложись спать». А я вредная была, да и потом стыдно, караул. Я пошла и давай плакать, ой, что я рыдала от стыда, что соврала. Они давай меня уговаривать, по голове меня гладят. Дядя меня любил, своих-то не было, а я в семье одна девчонка была.
Я не сказала, что это я съела, раз сначала соврала. Я хотела сказать, мысль меня тревожила, что надо сказать правду, надо, надо, мне бы легче было. А мне потом тяжко, я затосковала – домой и домой, и дядя меня потом увёз.
Дядя зверей бил, и я видела голову большую и ноги, она палила их, тётка-то. Я к соседским девчонкам ходила, а соседка спрашивает: «Че тётка делат?» «Ноги палит, вот таки большущи, голову палит» - и всё высказала. Соседка потом тётку Наталью спрашиват:
- Да каки ноги, откуда вы их взяли?
- А ты откуда знашь?
- Да Санька ваша сказала всё.
А тётка Наталья потом и говорит: «Ты не подумай, мы осенью корову убили ещё, а ноги-то лежали, и голова коровья». А дело уже перед Рождеством было. Тётка потом домой приходит и мне говорит: «Саня, нельзя говорить, дядю-то в тюрьму посадят». Нельзя было зверей бить, запрет был.
Дядя Платон, мамин брат, он чё-то долго не женился, а потом с тремя взял, большие дети. Они выросли все, разошлись. А они с бабушкой Натальей жили в Хаиме. И он меня всегда возил к себе на кошёлке, в тулуп завернёт меня. Привёз меня зимой туда, в Хаим, от Гурулёво 30 километров. Дядя ушёл на охоту. Он зверей бил, белок бил, а тётка Наталья стряпала хлеб в русской печке, и делала сверху чем мазать – яичко на сметане наладила. Хлеб спёкся, она его вытащила, на скамейку поставила, закрыла тряпкой, полотенцем. И молоко с вечера настоялось, пенку в русской печке плавили.
Я не выдержала, говорю себе: "Ну попробуй!" Взяла я хлебик, корочку – ой вкусно! Тётя куда-то ушла, меня замкнула. Я одна, чё делать? Остальную булку ободрала, потом смотрю – молоко стоит, а пенка-то какая! И попробовала, и попробовала, и всё уговорила, всё съела. Чё делать?
Она потом приходит, хватилась, и говорит:
- Ой, чё-то булки-то ободраны
А я ей говорю:
- Ой, тётка Наталья, ты знаешь, крыса вот с таким хвостом приходила! (а хоть бы где крысу-то видела, я их сроду не видела). Я думаю, чё это у ней, смотрю, а она объедат! А я побоялась, под одеяло залезла и боюсь.
Ну, вру ей. Потом она стала чай варить, и говорит:
- Ой, пенки-то тоже крыса съела?
А я ей:
- Да-да, я забыла тебе сказать, она ободрала, а потом пить захотела, залезла в кастрюлю и выпила все пенки.
Потом приходит дядя вечером. Сели ужинать, а она ему говорит: «Дядь, у нас крыса завелась двуногая, с большим хвостом, булки унесла, пенки все съела». А мне стыдно, что я соврала, стыдно! Я молчу сижу. И решилась я убежать. Дядя говорит: «Надо было крысу-то наказать».
Я подумала, что меня бить будут. Я выскочила из-за стола, есть ничего не стала, мне стыдно, а обутки – ичеги были, я их надела. Мне спрашивают: «Ты куда?» «Да на улицу». А зима, холодина, дядя говорит: «Вон там ведро, в ведро пописай, не ходи на улицу и ложись спать». А я вредная была, да и потом стыдно, караул. Я пошла и давай плакать, ой, что я рыдала от стыда, что соврала. Они давай меня уговаривать, по голове меня гладят. Дядя меня любил, своих-то не было, а я в семье одна девчонка была.
Я не сказала, что это я съела, раз сначала соврала. Я хотела сказать, мысль меня тревожила, что надо сказать правду, надо, надо, мне бы легче было. А мне потом тяжко, я затосковала – домой и домой, и дядя меня потом увёз.
Дядя зверей бил, и я видела голову большую и ноги, она палила их, тётка-то. Я к соседским девчонкам ходила, а соседка спрашивает: «Че тётка делат?» «Ноги палит, вот таки большущи, голову палит» - и всё высказала. Соседка потом тётку Наталью спрашиват:
- Да каки ноги, откуда вы их взяли?
- А ты откуда знашь?
- Да Санька ваша сказала всё.
А тётка Наталья потом и говорит: «Ты не подумай, мы осенью корову убили ещё, а ноги-то лежали, и голова коровья». А дело уже перед Рождеством было. Тётка потом домой приходит и мне говорит: «Саня, нельзя говорить, дядю-то в тюрьму посадят». Нельзя было зверей бить, запрет был.
Сметаношна дочь
Шесть или семь лет мне было, это было в 35-м году, мы только переехали в Кику и жили у Лобыцынских. Про Лобыцыху говорили, что она колдовка. Они с мамой раз поругались, так она зыбку с Полиной под дождь вытащила и оставила. Потом брат Кеша увидел, занёс обратно.
А там в доме были окошечки и полки на улицу, как холодильник. Туда молоко, сметану наставили. Кладовок-то не было, на окошечки ставили.
Катьке Заиграевой столько же лет, как мне было. К нам приезжали знакомые какие-то за ягодами, ягод в Кике много было. Сметану, творог привезли, на окошечко выставили, а сами ушли за ягодой. А тятя мой, покойничек, на рыбалку ушёл, речка рядом была.
А высоко окошечко-то, а мы ещё маленькие. Мы подтащили скамейку, на скамейку поставили стулья, чтобы добраться до этого окошечка. Открыли его, и сметану пальцàми хоп-хоп-хоп! Из стеклянки сметану, довольны такие, обрызганы все, сметана течёт! И не слышали, как тятя пришёл. А мы увлекаемся сметаной. Он потом подошёл, и, помню, у него целая охапка рыбы на прутике наздёвана была, хариусов свежих. И он меня как хлестанул! Я слетела с этого стула, Катька тоже – мы не ожидали!
Он меня и не бил никогда, но а это же пòкость: люди приехали, им кушать надо, а мы вот учинили. Ну и чё. Я потом заплакала, Катька убежала. А у нас сарай был, там лежали пошевни – сани с кузовком, на них назём возили. Я залезла под эти пошевни, сижу там. А девчонка-то я одна была, Полины ещё не было. Мы в мае переехали, а это было в июле или августе, а она в октябре родилась. Я сижу, спряталась, короче, а они меня потеряли.
Мама на работе была, пришла: «Где Шурка?» А нет меня, тёмно уже, вечер, я заснула там. Пошевни опрокинуты вверх ногами, и вроде как крыша получается, я там и задремала. Алексей был братик, Володя – они мне туда хлебушка притащили. Я не вылажу оттуда, братья родителям не говорят, где я, тихонько хлеб притаскивают. Я там всю ночь просидела. Они меня потом искать давай.
А меня потом прозвали «сметаношна дочь», ягодники-то эти.
А там в доме были окошечки и полки на улицу, как холодильник. Туда молоко, сметану наставили. Кладовок-то не было, на окошечки ставили.
Катьке Заиграевой столько же лет, как мне было. К нам приезжали знакомые какие-то за ягодами, ягод в Кике много было. Сметану, творог привезли, на окошечко выставили, а сами ушли за ягодой. А тятя мой, покойничек, на рыбалку ушёл, речка рядом была.
А высоко окошечко-то, а мы ещё маленькие. Мы подтащили скамейку, на скамейку поставили стулья, чтобы добраться до этого окошечка. Открыли его, и сметану пальцàми хоп-хоп-хоп! Из стеклянки сметану, довольны такие, обрызганы все, сметана течёт! И не слышали, как тятя пришёл. А мы увлекаемся сметаной. Он потом подошёл, и, помню, у него целая охапка рыбы на прутике наздёвана была, хариусов свежих. И он меня как хлестанул! Я слетела с этого стула, Катька тоже – мы не ожидали!
Он меня и не бил никогда, но а это же пòкость: люди приехали, им кушать надо, а мы вот учинили. Ну и чё. Я потом заплакала, Катька убежала. А у нас сарай был, там лежали пошевни – сани с кузовком, на них назём возили. Я залезла под эти пошевни, сижу там. А девчонка-то я одна была, Полины ещё не было. Мы в мае переехали, а это было в июле или августе, а она в октябре родилась. Я сижу, спряталась, короче, а они меня потеряли.
Мама на работе была, пришла: «Где Шурка?» А нет меня, тёмно уже, вечер, я заснула там. Пошевни опрокинуты вверх ногами, и вроде как крыша получается, я там и задремала. Алексей был братик, Володя – они мне туда хлебушка притащили. Я не вылажу оттуда, братья родителям не говорят, где я, тихонько хлеб притаскивают. Я там всю ночь просидела. Они меня потом искать давай.
А меня потом прозвали «сметаношна дочь», ягодники-то эти.
Как я в няньках жила и в школу пошла
Это было давно, мне было семь лет, восьмой, в 37-м году. В школу меня не отдали, а отдали в няньки в тётке в Сахарово. Тётка Анна, сестра мамы. Она сердита была, караул! У неё Стёпка был, семь лет, Лёнька был, три годика и ещё парнишка Гошка, полгодика. Они уйдут, на замок подденут, до вечера нас оставят, няньки называется. Парнишке сварят, а мы съедим, маленькие же были. А потом, Господи, напоим его сырым молоком. А он потом запоносил, у него открылся понос и рвота, и дня за четыре он умер. Ни больницы, ни врачей не было, а они работали в другом посёлке. Утром уйдут – и всё, а мы одни.
А потом тётка нас заставила стайки чистить. Они чушек держали коров, то да сё. Ну и корм мы и вычерпали. И она давай бить – Стёпку хлещет, а я ей говорю: «А меня не трогай! Своих нарòсти, потом бей!». И я вырвалась – и наутёк. Это было зимой, там дорожка через гору, по зимнику напрямую километров пять.
А потом тётка нас заставила стайки чистить. Они чушек держали коров, то да сё. Ну и корм мы и вычерпали. И она давай бить – Стёпку хлещет, а я ей говорю: «А меня не трогай! Своих нарòсти, потом бей!». И я вырвалась – и наутёк. Это было зимой, там дорожка через гору, по зимнику напрямую километров пять.

Тётка Анна и её дочь Люда
Она за мной бежала, а в гору-то ей никак уже, а я побежала в Гурулёво. Там бабушка и дедушка ещё живы были, мамы моей родители, дедушка Никита и бабушка Катерина. Я к ним и прибежала. Потом приходит Маруська двоюродная сестра моя, дяди Афанасьева дочь, ровесница моя, но в школу уже ходила.
Говорит: «Пойдём, Санька, – меня Санькой звали – в школу». Я говорю: «Я чё пойду в школу-то». Я азбуку знала, таблицу умножения знала. Ну и пошли мы с ней в школу.
А учитель был Иван Григорьевич Козлов, хороший, он потом говорит: «Буквы знашь?» Знаю, и азбуку, и букварь наизусть знаю. Он потом меня вызвал к доске: «Пиши!». Дал не мел. «Де-ти пе-ли хор. Пе-ли хо-ро-шо». Я написала. Вот до сих пор помню! Он мне даёт тетрадку и карандаш: ручек тогда не было, карандашом писали.
И говорит: «Всё, я записал тебя в школу». А уже второе полугодие, после каникул. «Приходи, - говорит, - завтра в школу». Я пришла домой к бабушке с дедушкой, и тётушка моя прилетела за мной. Сгребла меня – куда я деваюсь - и упёрла меня обратно в Сахарову-то в эту. Ну и замкнули опять, назавтра ушли на работу. И Иван Григорьевич, учитель, верхом на коне приехал туда. А дом стоял в краю деревни, там всего три дома было. Он подъехал, а мы из окошка-то выглядываем, а он говорит:
- Ты почему не в школе?
- А меня забрали, видите, под замком тут в избе сидим.
- А где ваша тётка?
- А она на работе в другим посёлке.
- Я поеду разберусь, как это.
Ну и вот, кончилась моя школа. Куда я?! Потом только на другой год. Дожила в няньках до весны, парнишка умер-то, Гошка, а чё из меня толку-то. Домой приехала. Пошла в школу переростком, девять лет мне было. Первый и третий класс в одном кабинете учились. Один ряд – первый класс, другой ряд – третий. Учитель один, Валентина, жена Иван Григорьевича. Сначала объяснит одним, даст задание, и другим объясняет. Малыши балуются, те старшие работают. А второй и четвёртый тоже вместе.
И там был Ильюшка Затеев, в третьем учился. Его к доске вызвали трёхзначное число умножить на однозначное, а он не умет. Я руку подняла. «Чё скажешь, Чернецкая девочка?». Я решу! Раз-раз, и всё, я таблицу умножения всю знала. И меня сразу во второй класс переводили, а мама с тятей мне не разрешили. Я на одни пятёрки там и училась.
Володька Молчанов, сосед, в четвёртом классе учился, а я вот втором. И заставили его читать. Он читает:
- Хы-а, ты-а.
- Что получилось?
- Труха!
Потом:
- Ры-а, мы-а!
- Что получилось?
- Окошко!
А там рама, окошко на картинке нарисовано.
Вот так и учились.
И вот ещё. Какой-то праздник был, тётка Анна отправила нас за жиром в другой посёлок, тоже четыре дома, за горой, километра два через гору. Пришли мы со Стёпкой, а нам покататься охота. Я залезла на санках, на брюхо. Скатишься с горы, там дом через дорогу, а около дома собака лежала на крыльце. Ворот не было, только заборчики. Я побоялась, что собака укусит, я отвернула и звезданулась об забор. Губу всю рассекла. Ну пришли мы, взяли этот жир. А губа распухла, кровь бежит. Тётка спрашивает, что это. А я говорю, что это меня царята шевяком[63] ударили. Там соседи были Лобыцынские, их почему-то царятами звали. Она меня сгребла за руку: «Ну-ка пошли, ну-ка пошли к ним!». А как я пойду-то, я в глаза их не видела! Ой, караул! Не пошли к ним, сказала, что с горы скатилась.
А праздник был, настряпано было, суп жирный был, как сейчас помню. А какая еда, у меня всё разволокло, губа вот такая распухла! У меня и сейчас шрам остался. Зализала, как собака, к врачу не ходили.
А нас дома не били, пальцем никто не тронул. Никого из детей не били. Один только раз старшего брата тятя ремнём шлёпнул, что он по балясам[64], где мост есть, бегал. Один раз шлёпнул, и всё. И Чебунят не били, не трогали. А вот у Антоновских соседей, подружка там Танина была, вот их зверски били, граблями, ой, караул, страшное дело.
И мы ребятишек не били. Раз только дедушка Борю шлёпнул ремнем, потом сам ночь не спал. Дедушка сигареты какие-то купил, а Боря их выкрал, ему 12 лет было, и где-то курил, угощал. А сосед на крыше сидел, видел это. Дедушке сказали, он посмотрел – пачки нету. А Боря, покойничек, домой не идёт.
Потом в бане лёг на полок, я ему говорю:
- Иди, чего не идёшь?
- Меня бить будут.
- Да кто тебя когда бил?
Ну и деда взял, ремнём его раз ударил и поставил его в угол, а потом сам всю ночь не спал. Мы детей не трогали, я не знаю, как это – бить.
Говорит: «Пойдём, Санька, – меня Санькой звали – в школу». Я говорю: «Я чё пойду в школу-то». Я азбуку знала, таблицу умножения знала. Ну и пошли мы с ней в школу.
А учитель был Иван Григорьевич Козлов, хороший, он потом говорит: «Буквы знашь?» Знаю, и азбуку, и букварь наизусть знаю. Он потом меня вызвал к доске: «Пиши!». Дал не мел. «Де-ти пе-ли хор. Пе-ли хо-ро-шо». Я написала. Вот до сих пор помню! Он мне даёт тетрадку и карандаш: ручек тогда не было, карандашом писали.
И говорит: «Всё, я записал тебя в школу». А уже второе полугодие, после каникул. «Приходи, - говорит, - завтра в школу». Я пришла домой к бабушке с дедушкой, и тётушка моя прилетела за мной. Сгребла меня – куда я деваюсь - и упёрла меня обратно в Сахарову-то в эту. Ну и замкнули опять, назавтра ушли на работу. И Иван Григорьевич, учитель, верхом на коне приехал туда. А дом стоял в краю деревни, там всего три дома было. Он подъехал, а мы из окошка-то выглядываем, а он говорит:
- Ты почему не в школе?
- А меня забрали, видите, под замком тут в избе сидим.
- А где ваша тётка?
- А она на работе в другим посёлке.
- Я поеду разберусь, как это.
Ну и вот, кончилась моя школа. Куда я?! Потом только на другой год. Дожила в няньках до весны, парнишка умер-то, Гошка, а чё из меня толку-то. Домой приехала. Пошла в школу переростком, девять лет мне было. Первый и третий класс в одном кабинете учились. Один ряд – первый класс, другой ряд – третий. Учитель один, Валентина, жена Иван Григорьевича. Сначала объяснит одним, даст задание, и другим объясняет. Малыши балуются, те старшие работают. А второй и четвёртый тоже вместе.
И там был Ильюшка Затеев, в третьем учился. Его к доске вызвали трёхзначное число умножить на однозначное, а он не умет. Я руку подняла. «Чё скажешь, Чернецкая девочка?». Я решу! Раз-раз, и всё, я таблицу умножения всю знала. И меня сразу во второй класс переводили, а мама с тятей мне не разрешили. Я на одни пятёрки там и училась.
Володька Молчанов, сосед, в четвёртом классе учился, а я вот втором. И заставили его читать. Он читает:
- Хы-а, ты-а.
- Что получилось?
- Труха!
Потом:
- Ры-а, мы-а!
- Что получилось?
- Окошко!
А там рама, окошко на картинке нарисовано.
Вот так и учились.
И вот ещё. Какой-то праздник был, тётка Анна отправила нас за жиром в другой посёлок, тоже четыре дома, за горой, километра два через гору. Пришли мы со Стёпкой, а нам покататься охота. Я залезла на санках, на брюхо. Скатишься с горы, там дом через дорогу, а около дома собака лежала на крыльце. Ворот не было, только заборчики. Я побоялась, что собака укусит, я отвернула и звезданулась об забор. Губу всю рассекла. Ну пришли мы, взяли этот жир. А губа распухла, кровь бежит. Тётка спрашивает, что это. А я говорю, что это меня царята шевяком[63] ударили. Там соседи были Лобыцынские, их почему-то царятами звали. Она меня сгребла за руку: «Ну-ка пошли, ну-ка пошли к ним!». А как я пойду-то, я в глаза их не видела! Ой, караул! Не пошли к ним, сказала, что с горы скатилась.
А праздник был, настряпано было, суп жирный был, как сейчас помню. А какая еда, у меня всё разволокло, губа вот такая распухла! У меня и сейчас шрам остался. Зализала, как собака, к врачу не ходили.
А нас дома не били, пальцем никто не тронул. Никого из детей не били. Один только раз старшего брата тятя ремнём шлёпнул, что он по балясам[64], где мост есть, бегал. Один раз шлёпнул, и всё. И Чебунят не били, не трогали. А вот у Антоновских соседей, подружка там Танина была, вот их зверски били, граблями, ой, караул, страшное дело.
И мы ребятишек не били. Раз только дедушка Борю шлёпнул ремнем, потом сам ночь не спал. Дедушка сигареты какие-то купил, а Боря их выкрал, ему 12 лет было, и где-то курил, угощал. А сосед на крыше сидел, видел это. Дедушке сказали, он посмотрел – пачки нету. А Боря, покойничек, домой не идёт.
Потом в бане лёг на полок, я ему говорю:
- Иди, чего не идёшь?
- Меня бить будут.
- Да кто тебя когда бил?
Ну и деда взял, ремнём его раз ударил и поставил его в угол, а потом сам всю ночь не спал. Мы детей не трогали, я не знаю, как это – бить.
[63] Шевяк – застывший на морозе навоз [64] По брёвнам
История с рублём
История с рублём – не простым, а с бумажным. Мне лет 10 или 11 было, это было в 39-м или 40-м году. У нас в конце деревни полевые вороты были. Там сеяли пшеницу, овёс, а чтобы скот не ходил, там ворота сделали. Мы бегали их открывать попеременки. Молчановска Нюрка, Гришка около ворот, а мы подальше. Прибежишь, эти ворота откроешь. Тогда курортники в Горячинск ездили, горсть мелочи бросят в траву, потом бегаешь собираешь. Автобусов не было, просто машина полуторка, ничем не закрыта, там скамейки наставлены в кузове. Курортникам интересно, бросят, а мы врассыпную в траве ищем, лазим!
Один раз я прибежала, опоздала. Нюрке Молчановской, она на год старше меня была, ей бросили четыре двадцаткà! В то время это целый капитал – 80 копеек! Ну и чё, она делиться что ли будет, раз она открыла ворота – заработок её. Ну ладно.
Назавтра я пораньше, думаю, побегу. А они где-то часов в 10 ехали. Я прибежала, открыла и закрыла, и мне бросили рубль бумажный. И никого нету главное. Бумажный рубль! И смотрю, прибежал Мишка Молчанов, ему лет 15 уже было, и деда мой, деда Миша, ему лет 14. Прибежали – и давай отбивать у меня рубль этот. Они видели, что бросили. Что делать, я раз – и в рот его затолкала. От они меня пичкали-пичкали, обыскали – ничего нету-ка. Ну и чё, они меня бить давай. Я вырвалась, и по задам, по лесу прибежала. А через дорогу Копыловские жили, и у колодца Петя, годок мой, брат дедушки, меня скараулил и меня как даванёт по башке! Они, видимо, напрямую побежали и его предупредили. Мне так больно было!
Не растерялась. На нём была рубашка шитая новая, ситцевая, розовая, красивая такая, и много-много пуговиц нашито, мода была: три-четыре с петельками, остальные так пуговички нашиты. Я как хватанула и в клочья ему всю изорвала! А рубль у меня весь во рту смок, три дня сушила потом! Но хоть ладно не разорвался. На рубль можно было сахару купить, сахар по 50 копеек стоил. А где я его куплю, у нас магазина там не было. Я его маме отдала, а мама поехала купила какие-то конфеты – по форме косой заплетёны, не знаю даже, что это было, вот она целую косу мне купила, все ели. Целое состояние – рубль!
А дело в том, что воду-то брали из речки, и мимо них надо идти, мимо Чебунят. Они там, около речки жили. А у них Паша был с 32-го года и Вася с 35-го, они меньше меня были. И вот я пойду мимо них, а они палку в грязь ткнут и всю меня грязью затыкают. Я один раз пришла за водой, они на речке обои, Васька и Пашка. А там была такая лава, колода, и с этой колоды черпали воду. Вот они меня одолели, давай меня брызгать, не подпускают меня к этой лаве-то, чтоб воду почерпнуть. А постарше была, схватила, одного, второго, и в воду их столкнула обоих. И коромысло взяла, говорю: «Попробуйте только вылезти, я вам башку сломаю этим коромыслом! Будете мне ещё проходу не давать!». Они, главное, не вылазят потом, я аж испугалась. И потом с тех пор они меня даже не трогали!
Потом, когда с дедой поженились уже, вспоминали эту историю. Они и спрашивали:
- И зачем мы отбирали?
- Откуда я знаю, зачем отбирали. Я его заработала, а вы прибежали, кони!
Вот такая история с рублём.
Один раз я прибежала, опоздала. Нюрке Молчановской, она на год старше меня была, ей бросили четыре двадцаткà! В то время это целый капитал – 80 копеек! Ну и чё, она делиться что ли будет, раз она открыла ворота – заработок её. Ну ладно.
Назавтра я пораньше, думаю, побегу. А они где-то часов в 10 ехали. Я прибежала, открыла и закрыла, и мне бросили рубль бумажный. И никого нету главное. Бумажный рубль! И смотрю, прибежал Мишка Молчанов, ему лет 15 уже было, и деда мой, деда Миша, ему лет 14. Прибежали – и давай отбивать у меня рубль этот. Они видели, что бросили. Что делать, я раз – и в рот его затолкала. От они меня пичкали-пичкали, обыскали – ничего нету-ка. Ну и чё, они меня бить давай. Я вырвалась, и по задам, по лесу прибежала. А через дорогу Копыловские жили, и у колодца Петя, годок мой, брат дедушки, меня скараулил и меня как даванёт по башке! Они, видимо, напрямую побежали и его предупредили. Мне так больно было!
Не растерялась. На нём была рубашка шитая новая, ситцевая, розовая, красивая такая, и много-много пуговиц нашито, мода была: три-четыре с петельками, остальные так пуговички нашиты. Я как хватанула и в клочья ему всю изорвала! А рубль у меня весь во рту смок, три дня сушила потом! Но хоть ладно не разорвался. На рубль можно было сахару купить, сахар по 50 копеек стоил. А где я его куплю, у нас магазина там не было. Я его маме отдала, а мама поехала купила какие-то конфеты – по форме косой заплетёны, не знаю даже, что это было, вот она целую косу мне купила, все ели. Целое состояние – рубль!
А дело в том, что воду-то брали из речки, и мимо них надо идти, мимо Чебунят. Они там, около речки жили. А у них Паша был с 32-го года и Вася с 35-го, они меньше меня были. И вот я пойду мимо них, а они палку в грязь ткнут и всю меня грязью затыкают. Я один раз пришла за водой, они на речке обои, Васька и Пашка. А там была такая лава, колода, и с этой колоды черпали воду. Вот они меня одолели, давай меня брызгать, не подпускают меня к этой лаве-то, чтоб воду почерпнуть. А постарше была, схватила, одного, второго, и в воду их столкнула обоих. И коромысло взяла, говорю: «Попробуйте только вылезти, я вам башку сломаю этим коромыслом! Будете мне ещё проходу не давать!». Они, главное, не вылазят потом, я аж испугалась. И потом с тех пор они меня даже не трогали!
Потом, когда с дедой поженились уже, вспоминали эту историю. Они и спрашивали:
- И зачем мы отбирали?
- Откуда я знаю, зачем отбирали. Я его заработала, а вы прибежали, кони!
Вот такая история с рублём.
Как тятя медведя победил
Это было в 1940 году, перед войной. Мама поехала на мельницу за 30 километров молоть черемуху, а тятя утром ушел ставить сети. Мне было 11 лет, Алексею – 9. Дело было к августу, ягода уже поспела. Мы, ребятишки, побежали в лес по ягоду. Когда выходили из леса, обнаружили птичье гнездо, там 3 птенчика. Мы их принесли домой.
Мама оставалась ночевать на мельнице, поэтому доить корову к нам пришла соседка. Увидела птенцов, сказала: «Вы что, с ума сошли, это совиные птенцы, они принесут много несчастья».
Мама оставалась ночевать на мельнице, поэтому доить корову к нам пришла соседка. Увидела птенцов, сказала: «Вы что, с ума сошли, это совиные птенцы, они принесут много несчастья».

Николай, отец бабы Шуры
Ворот у нас не было, только забор из досок. Вечером прилетела сова, села на столб у ворот. Глаза большущие, как у кошки, нос крючком. Села и давай страшно кричать: «Фу-бу, фу-бу». Покричала и улетела.
Ночь мы ночевали одни, а утром унесли птенцов в гнездо. Пришли домой, приехала мама, а тяти так и нет. Мама сказала, что он в больнице в Турунтаево, потому что его подрал медведь.
Тятя шёл утром с костылем и ружьём. Трава высокая, росы много, он обивал её костылём. И прямо на него из травы вышла медведица и кинулась на него. Он успел сообразить и сунул ей костыль в пасть. Она разодрала ему руку – всю как есть, но костыль не дал ей грызть дальше. Она ушла, но сразу вернулась. За это время тятя успел взять одной рукой ружьё и стрельнуть в неё.
Он слышал, что в лесу работают люди, кричал, звал на помощь, но никто не пришел. Он дошел до Гурулёво, до своего брата Ивана, и тот за 9 километров отвёз его на коне до госпиталя в Турунтаево. Мама, возвращаясь с мельницы, зашла к дяде Ване, и тот рассказал, что случилось с тятей.
Медведица полностью изорвала тяте руку. В госпитале он пролежал с полгода. На войну его призвали, служил в санчасти на Востоке. Сталин ведь всех своих годков призвал.
Ночь мы ночевали одни, а утром унесли птенцов в гнездо. Пришли домой, приехала мама, а тяти так и нет. Мама сказала, что он в больнице в Турунтаево, потому что его подрал медведь.
Тятя шёл утром с костылем и ружьём. Трава высокая, росы много, он обивал её костылём. И прямо на него из травы вышла медведица и кинулась на него. Он успел сообразить и сунул ей костыль в пасть. Она разодрала ему руку – всю как есть, но костыль не дал ей грызть дальше. Она ушла, но сразу вернулась. За это время тятя успел взять одной рукой ружьё и стрельнуть в неё.
Он слышал, что в лесу работают люди, кричал, звал на помощь, но никто не пришел. Он дошел до Гурулёво, до своего брата Ивана, и тот за 9 километров отвёз его на коне до госпиталя в Турунтаево. Мама, возвращаясь с мельницы, зашла к дяде Ване, и тот рассказал, что случилось с тятей.
Медведица полностью изорвала тяте руку. В госпитале он пролежал с полгода. На войну его призвали, служил в санчасти на Востоке. Сталин ведь всех своих годков призвал.
Как о войне узнали
Тарелки были, радио, по ним объявили войну. И сразу всех мужиков забрали. На конях возили. А у Пискуновых детей семь человек. Они все, как волки, завыли. И вот у них Галька была больная. Санька был. Кони пропадали, подыхали, а Санька консервной банкой разрежет шкуру, и мясо это на печке жарит. Без соли, без ничего. Галька болела всё, а исть-то нечего, всё около печки сидела. Ну и всё, и умерла. Ноги опухали у ней. Как-то взяли её за ягодой. А она там упадёт на колени: «Змеи, подождите, змеи!» - на нас. А мы её ждать, что ли, будем?
А тётка Мария забавная такая была, труженица, ей семь человек кормить надо. Вот она бедная. Мы с ней смольё добывали.
А рядом Молчановски были, тоже семь человек. Девчонка маленькая была, перед войной родилась. Отца забрали, он председатель колхоза был, и сына с 25 года, и сразу их убили, и отца, и брата.
А теперь осталось их трое: двое в Братске живут, и одна в Коми. Одного в Братске машина задавила, один в Кике с моста упал. Пил-пил, жена была, семья была, машина была, дача была, а потом запился, видимо, и в Кику приехал. И смоста свалился в Кику. И вот у них маленькая Нинка была. За ягодой пойдём, она в 43-м году подросла уже, и она кричит: «Поррая посади», значит «потеряла сапоги». Плачет, ревёт, забыла, куда их положила.
А тётка Мария забавная такая была, труженица, ей семь человек кормить надо. Вот она бедная. Мы с ней смольё добывали.
А рядом Молчановски были, тоже семь человек. Девчонка маленькая была, перед войной родилась. Отца забрали, он председатель колхоза был, и сына с 25 года, и сразу их убили, и отца, и брата.
А теперь осталось их трое: двое в Братске живут, и одна в Коми. Одного в Братске машина задавила, один в Кике с моста упал. Пил-пил, жена была, семья была, машина была, дача была, а потом запился, видимо, и в Кику приехал. И смоста свалился в Кику. И вот у них маленькая Нинка была. За ягодой пойдём, она в 43-м году подросла уже, и она кричит: «Поррая посади», значит «потеряла сапоги». Плачет, ревёт, забыла, куда их положила.
А в день победы я уже работала. Мне 3 мая было 16 лет, а 9 мая – День Победы. Я на работу шла от Грушки, у которой мать-то заблудилась. Они потом в Гремячинск уехали, я у их жила, в детсаде работала.
Я иду на работу в 9 часов, там контора заводская при рыбзаводе. На площади народу, музыка, слёзы, пляшут, плачут, гармонь играт. Что случилось, что случилось? День Победы. Вот я в Гремячинске встретила. А в декабре 45-го я пошла потом за паспортом.
Я иду на работу в 9 часов, там контора заводская при рыбзаводе. На площади народу, музыка, слёзы, пляшут, плачут, гармонь играт. Что случилось, что случилось? День Победы. Вот я в Гремячинске встретила. А в декабре 45-го я пошла потом за паспортом.

9 мая 1945 года.
Как я чуть не замёрзла
Это было 29 или 30 декабря 1942 года. Я училась в шестом классе в Батурино, сестре Полине было шесть лет. Мама наморозила молока, и с Алексеем они пошли в город продать молоко и купить одежды.
От Кики до Батурино 21 килòметр мама, Алексей и Полина доехали на кобылке Семилетке. В Батурино Полину отвели к врачу, она была слепа, куриная слепота у неё была. Дальше мама с Алексеем шли пешком до Татаурово, а оттуда – на поезде в город.
От Батурино до Кики мы с Полиной возвращались вместе на Семилетке, на санях.
Через девять килòметров остановились в Гурулёво у дяди, маминого брата. Он уговаривал остаться на ночь: тёмно, снег по пояс, мороз. А дома брат Володя ждёт, ехать надо. Дядя дал сена, чтобы постелить на сани для тепла и мягкости, Полину закутали в шушлачок. Проехали пять километров – и лошадь встала. Я слезла с саней, подгоняю лошадь – та стоит. Дашь ей сено – она пойдет, дожует – встанет. Кончилось сено с саней, так она вообще легла посреди дороги. Ночь, мороз, снег по пояс.
И вот вижу силуэт идёт, испугалась, что волк. Оказалось, раненый солдат шел в Баргузин. Расспросил нас, что случилось. Залез в снег по пояс, выломал с дерева кнут и как стеганул лошадь – она и полетела мухой, только снег в лицо.
Дома ничего не было, ни света, ни свечей. Брат Володя разжег очаг, солдат достал хлеба и сахара, угостил нас, остался ночевать. На утро пошёл дальше. Имени не спросили.
Если бы не он, замерзли бы насмерть.
От Кики до Батурино 21 килòметр мама, Алексей и Полина доехали на кобылке Семилетке. В Батурино Полину отвели к врачу, она была слепа, куриная слепота у неё была. Дальше мама с Алексеем шли пешком до Татаурово, а оттуда – на поезде в город.
От Батурино до Кики мы с Полиной возвращались вместе на Семилетке, на санях.
Через девять килòметров остановились в Гурулёво у дяди, маминого брата. Он уговаривал остаться на ночь: тёмно, снег по пояс, мороз. А дома брат Володя ждёт, ехать надо. Дядя дал сена, чтобы постелить на сани для тепла и мягкости, Полину закутали в шушлачок. Проехали пять километров – и лошадь встала. Я слезла с саней, подгоняю лошадь – та стоит. Дашь ей сено – она пойдет, дожует – встанет. Кончилось сено с саней, так она вообще легла посреди дороги. Ночь, мороз, снег по пояс.
И вот вижу силуэт идёт, испугалась, что волк. Оказалось, раненый солдат шел в Баргузин. Расспросил нас, что случилось. Залез в снег по пояс, выломал с дерева кнут и как стеганул лошадь – она и полетела мухой, только снег в лицо.
Дома ничего не было, ни света, ни свечей. Брат Володя разжег очаг, солдат достал хлеба и сахара, угостил нас, остался ночевать. На утро пошёл дальше. Имени не спросили.
Если бы не он, замерзли бы насмерть.

От Кики до Батурино 21 км мама, Алексей и Полина доехали на кобылке. Дальше мама с Алексеем шли пешком до Татаурово, а оттуда – на поезде в Улан-Удэ.
От Батурино до Кики мы с Полиной возвращались вместе на Семилетке, на санях.
Вшивая бригада
Это был 43 год, я закончила шестой класс, перешла в седьмой. Зиму учились, а с мая по по сентябь работали. В бригаде было четыре парня: сын председателя, сын бухгалтера, еще двое и мы с Машей вербованной. Нет, не вербованной, а эвакуированной.
Приехали на рыбалку в Горячинск. Жили в зимовье на берегу Байкала, в нем – нары из досòк, без пола, без постели. Мне мама дала зипун вместо одеяла, матраца и подушки. Рыбачили с пяти утра. Невод шёл по низу, и нужно было его давить ногами, чтобы выбрать рыбу. Председатель кричал: «Топчите, топчите, несметное количество рыбы!» Натопчем, вытащим, а там – ничего.
Голодовали, не мылись, но было весело. Приехал председатель, отец Гришки. Мы легли спать под нары, а он – на нарах. У него белое белье. В пять утра встали, а он уже на улице жарит, коптит на тагане кальсоны: они уже не белые, а серые, все облеплены вшами. Мы-то уже привычные, встанем с утра – вши по ногам бегают, стряхнём – и пошли. Да и они нас уже не кусали, привыкли к нам.
У председателя, Прокопия Ильича, был друг, начальник рыбкоопа. Он договорился с ним, чтобы нам в баню сходить, помыться, там еще тётя Маша добрая была.
А молва о нас уже пошла, звали нас «вшивой бригадой».
За хлебом надо было идти два килòметра в Горячинск. На пять дней давали два килограмма, по четыреста грамм на день. Еще продавали коммерческий хлеб по 200 рублей за булку.
Пришли мы в Горячинск за хлебом. Народищу – по головам ходят! Увидели нас, расступились: "Вшивая бригада идёт"! Народ в Горячинске культурный был, вшей боялись.
Кончился сезон, мы приехали домой. У нас тогда была тётка Агафья, мамина сестра, печку нам клала. Постелили ей на ночь мой шушлачок из бараней шерсти. Наутро она говорит:
-Римка, у тебя клопы чё ли?
- Да каки клопы, нет клопов.
Вытащили шушлачок на солнце – воши все и повылазили. Вот они её и искусали, а нас-то уже не ели, не чувствовали.
А Машка такую частушки пела:
«Сашка приехал, полчемодана вшей привез,
Он их высыпал на лавку, а я думала – овёс!»
Приехали на рыбалку в Горячинск. Жили в зимовье на берегу Байкала, в нем – нары из досòк, без пола, без постели. Мне мама дала зипун вместо одеяла, матраца и подушки. Рыбачили с пяти утра. Невод шёл по низу, и нужно было его давить ногами, чтобы выбрать рыбу. Председатель кричал: «Топчите, топчите, несметное количество рыбы!» Натопчем, вытащим, а там – ничего.
Голодовали, не мылись, но было весело. Приехал председатель, отец Гришки. Мы легли спать под нары, а он – на нарах. У него белое белье. В пять утра встали, а он уже на улице жарит, коптит на тагане кальсоны: они уже не белые, а серые, все облеплены вшами. Мы-то уже привычные, встанем с утра – вши по ногам бегают, стряхнём – и пошли. Да и они нас уже не кусали, привыкли к нам.
У председателя, Прокопия Ильича, был друг, начальник рыбкоопа. Он договорился с ним, чтобы нам в баню сходить, помыться, там еще тётя Маша добрая была.
А молва о нас уже пошла, звали нас «вшивой бригадой».
За хлебом надо было идти два килòметра в Горячинск. На пять дней давали два килограмма, по четыреста грамм на день. Еще продавали коммерческий хлеб по 200 рублей за булку.
Пришли мы в Горячинск за хлебом. Народищу – по головам ходят! Увидели нас, расступились: "Вшивая бригада идёт"! Народ в Горячинске культурный был, вшей боялись.
Кончился сезон, мы приехали домой. У нас тогда была тётка Агафья, мамина сестра, печку нам клала. Постелили ей на ночь мой шушлачок из бараней шерсти. Наутро она говорит:
-Римка, у тебя клопы чё ли?
- Да каки клопы, нет клопов.
Вытащили шушлачок на солнце – воши все и повылазили. Вот они её и искусали, а нас-то уже не ели, не чувствовали.
А Машка такую частушки пела:
«Сашка приехал, полчемодана вшей привез,
Он их высыпал на лавку, а я думала – овёс!»
Про школу
Ленка Лабыциха просмешница была, обзовёт, обдёргат. Оне хорошо жили, а мы – плохо; все девчонки со мной, а с ней никто не играл. Ну и ладно. А потом один раз мне сшили платьишко новенько, ситцево, а я на качеля пошла – и раз, и порвала. А она меня – так, сяк, высмеяла. Мне лет 11 тогда было.
А потом прихожу на речку, за мост, там старый мост ещё был, а она, Ленка, пришла туда бельё полоскать. И что-то такое она мне сказала, то ли неряха, то ли бедная, и я её раз – и толкнула в воду. И она упала и учть не захлебнулась! Караул! Ну потом сама вылезла, я её, что ли, вытаскивать буду!
А потом мы с ней вместе учились в 4 классе в Нестерово, в 41-м году. У тётки еёшной жили на квартире. А тётка горбата была, у них был Колька и Сашка: мать умерла, отец тоже умер. Все у тётки жили. А Ленка обмачивалась ночью, когда спит. А потом в 5-м классе мы в Батурино учились, я в однем, она – в другом. И с тех пор я её не видела много-много лет. А потом она припадошная стала.
А потом прихожу на речку, за мост, там старый мост ещё был, а она, Ленка, пришла туда бельё полоскать. И что-то такое она мне сказала, то ли неряха, то ли бедная, и я её раз – и толкнула в воду. И она упала и учть не захлебнулась! Караул! Ну потом сама вылезла, я её, что ли, вытаскивать буду!
А потом мы с ней вместе учились в 4 классе в Нестерово, в 41-м году. У тётки еёшной жили на квартире. А тётка горбата была, у них был Колька и Сашка: мать умерла, отец тоже умер. Все у тётки жили. А Ленка обмачивалась ночью, когда спит. А потом в 5-м классе мы в Батурино учились, я в однем, она – в другом. И с тех пор я её не видела много-много лет. А потом она припадошная стала.
В 5-6 классе учились когда, на квартире жили с Клавой Панкратовой, и с нами учительница жила, Валентина Ивановна. Она демобилизована была, то есть эвакуирована. Там война была, а она к нам приехала учительницей по русскому и литературе. В лаптях, а зима, в носках шерстяных. И она всё время простужалась, у неё из носу текло.
Мы с Клавой на Рождество ворожить вздумали. Кладём там всё, как надо, лямки замыкаем – и надо задом идти. Я дойду, Клава хохочет, а учительнице надо отдыхать. А она: «Девочки, вы чё смеётесь, вам чё смешно?» А она бедная, ей уроки надо готовить. А потом квартирантка наша ей какие-то валенки дала, дедушкины. Дедушка на фронте был, валенки дома остались. Валентина Ивановна, я и сейчас её жалею. Криволапова фамилия у ней.
Мы с Клавой на Рождество ворожить вздумали. Кладём там всё, как надо, лямки замыкаем – и надо задом идти. Я дойду, Клава хохочет, а учительнице надо отдыхать. А она: «Девочки, вы чё смеётесь, вам чё смешно?» А она бедная, ей уроки надо готовить. А потом квартирантка наша ей какие-то валенки дала, дедушкины. Дедушка на фронте был, валенки дома остались. Валентина Ивановна, я и сейчас её жалею. Криволапова фамилия у ней.

C Клавой Панкратовой в школе и 20 лет спустя.
А ещё Николай Иванович Буинов был, по физике, по ботанике учил. Он придёт, рассказывает нам: «Сегодня мы будем говорить относительно размножения птиц». А перед ним сидит прямо Кешка Залуцкий (Полин муж был Володя Залуцкий, так вот это его брат), он такой пройдоха был, хулиган. Он потом говорит:
- Николай Иваныч, разрешите на улицу выйти, ну, на двор сходить.
- Так вот только перемена была.
- Да не успел.
- Ну иди.
Кешка вышел в коридор. А николай Иванович ходил в галошах, у входа их снимет и зайдет на урок. Кешка взял и галоши ему приколотил на гвоздь. Потом вернулся, и на другой стороне доски нарисовал учителя: «Вот, Николай Иваныч, это ты, бурят». А Николай Иванович выскочил, раздражённый весь, бедный, весь в заплатках, локти в заплатках, штаны в заплатках. У него семь ребятишек было, бурятят, а он много лет работал в школе, пожилой уже. И всё говорил, что 25 лет в школе проработал, а таких учеников ещё не видел.
Вот и вышел он, раз-раз – и упал, галоши-то прибиты. Целое дело было. Вот хулиганьё какое.
А кормили нас конями пропащими и капустой мороженой. Кони пропадали, вот мясо их с капустой смешают – и накормят. А шкодить надо было.
И на одимпиаду ездили, и песни пели, и плясали ещё.
Ещё директрису помню, она по немецкому учила и по географии, Ульяна Прокопьевна. Мы собирались на олимпиаду. Она попросила погладить ей платье. Платье красивое, вишневого цвета, шерстяное. Утюги были такие, что в них угли накладёшь, и угли горят, греют. И мы ей углей нагрели сильно, и сожгли платье-то это.
А потом мы поехали на олимпиаду в Турунтаево. Ой, весело было, песни там пели. И мы первое место заняли. Есть нечего было, а весело, петь хотелось.
А мне до сих пор Валентину Ивановну эту жалко, сейчас даже. Что только ни терпела, что только мы ни выделывали, хулиганьё. Мы с Фёклой из Зырянска за одной партой сидели. Она вдохнёт, а у неё изо рта брызги летят, как дождь. А мне смешно, как это, у меня не получается. Там урок объясняют, а она мне показывает слюни, а я хохочу! Но я отличница была, у меня все пятерки были. Ещё Шурка Батурина отличница была.
- Николай Иваныч, разрешите на улицу выйти, ну, на двор сходить.
- Так вот только перемена была.
- Да не успел.
- Ну иди.
Кешка вышел в коридор. А николай Иванович ходил в галошах, у входа их снимет и зайдет на урок. Кешка взял и галоши ему приколотил на гвоздь. Потом вернулся, и на другой стороне доски нарисовал учителя: «Вот, Николай Иваныч, это ты, бурят». А Николай Иванович выскочил, раздражённый весь, бедный, весь в заплатках, локти в заплатках, штаны в заплатках. У него семь ребятишек было, бурятят, а он много лет работал в школе, пожилой уже. И всё говорил, что 25 лет в школе проработал, а таких учеников ещё не видел.
Вот и вышел он, раз-раз – и упал, галоши-то прибиты. Целое дело было. Вот хулиганьё какое.
А кормили нас конями пропащими и капустой мороженой. Кони пропадали, вот мясо их с капустой смешают – и накормят. А шкодить надо было.
И на одимпиаду ездили, и песни пели, и плясали ещё.
Ещё директрису помню, она по немецкому учила и по географии, Ульяна Прокопьевна. Мы собирались на олимпиаду. Она попросила погладить ей платье. Платье красивое, вишневого цвета, шерстяное. Утюги были такие, что в них угли накладёшь, и угли горят, греют. И мы ей углей нагрели сильно, и сожгли платье-то это.
А потом мы поехали на олимпиаду в Турунтаево. Ой, весело было, песни там пели. И мы первое место заняли. Есть нечего было, а весело, петь хотелось.
А мне до сих пор Валентину Ивановну эту жалко, сейчас даже. Что только ни терпела, что только мы ни выделывали, хулиганьё. Мы с Фёклой из Зырянска за одной партой сидели. Она вдохнёт, а у неё изо рта брызги летят, как дождь. А мне смешно, как это, у меня не получается. Там урок объясняют, а она мне показывает слюни, а я хохочу! Но я отличница была, у меня все пятерки были. Ещё Шурка Батурина отличница была.
Про тоску и малярию
Тоска у меня была во втором классе, в Гурулёво ещё. Плакала всё время, чего-то боялась. Мне сказали с испуга это, а с какого испуга – не помню.
Мне сказали, надо лечиться, у меня тоска, и я в Нестерово съездила, 18 килòметров, там была бабушка Вера. Она мне яичко наговорила и в платочек между грудей затолкала. И надо носить его две недели, через речку нельзя ходить. А потом это яичко в речку наотмашку бросить.
А потом мне мама высушенную медвежью лапу под головашки, под подушку, положила, чтобы я не видела. И я однажды проснулась, встала подушку убирать, и увидела лапу эту, и так испугалась! И тоска прошла у меня. Испуг испугом прогнали.
Мне сказали, надо лечиться, у меня тоска, и я в Нестерово съездила, 18 килòметров, там была бабушка Вера. Она мне яичко наговорила и в платочек между грудей затолкала. И надо носить его две недели, через речку нельзя ходить. А потом это яичко в речку наотмашку бросить.
А потом мне мама высушенную медвежью лапу под головашки, под подушку, положила, чтобы я не видела. И я однажды проснулась, встала подушку убирать, и увидела лапу эту, и так испугалась! И тоска прошла у меня. Испуг испугом прогнали.

Осип, Шура и Михаил. 1949 год.
Когда уже замужем была, напала на меня малярия. Меня всю, как есть, трясло, я только одеяло ищу, и ничего не помогает. А потом я захотела луку солёного. Там бабушка была, она принесла, я поела. Потом мы в орешник пошли, с Осей и Михаилом, и нас застал там дождь, и вторично меня малярия взяла, опять трясло. И наелась я луку этого, и всё прошло.
Как я за солью ходила
Был 43 год, конец августа. Работали в рыболовецкой бригаде. Когда была непогода, собирали бруснику и в Горячинске обменивали на соль. Там познакомились с бабушкой Федорой. Ходили с ней и увидели гору соли, её ещё до войны привезли солить рыбу, так и оставили.
Вернулась домой в Кику, а там ни хлеба, ни керосина, ни соли. Мама говорит: «Сходи, может, за солью в Горячинск». Вышла я из Кики в пять утра. До Гремячинска 45 килòметров дошла, там чай попила, и еще 30 – до Горячинска. У меня был мешок с лямками, мне туда 6-7 килограммов соли насыпали. Соль серая, крупная, её толочь надо было.
Вот уже пять часов вечера, паром от Горячинска до Турки закрыт. Двое мальчишек перевезли меня на лодке. Я прыгнула из лодки, да мимо – чуть не утонула. Обувь из овчины размокла, вся мокрая, а идти еще 20 килòметров. Кусок хлеба был с собой, тоже размок. Соль мокрая, отяжелела. Не дошла два километра – вижу, картофельное поле, его китаец в зимовье караулил. Думаю, зайти в зимовье отдохнуть, а боюсь, вдруг китаец подумает, что я воровать картошку пришла, и стрельнет. Подошла все-таки к зимовью, смотрю в окно, а там цыганка и два маленьких цыганёнка поют, пляшут, жарят картошку.
Уже и ночь, двенадцать часов. Цыганка уговаривала остаться до утра, но я пошла до Гремячинска еще два килòметра. Там жила подружка Груша, Ниловская (Нилова). Её отец, дядя Саша Нилов, бурят, был кузнецом. До 41-го года жили в Кике, потом переехали в Гремячинск. Пока шла, страху натерпелась: ночь, темень, Байкал шумит. Я как зашла к Груше – так сразу оглохла и упала, и пролежала два дня! За день прошла 105 километров!
На третий день повезли вербованных, эвакуированных то есть, обратно в их города, и дядя Саша Нилов посадил меня на телегу и отвез до Хаима. Там жил мамин брат дядя Платон. Там я пролежала ещё два дня, потом помогла ему копать картошку, у них своих ребятишек не было. Потом он отвёз меня на коне до Кики.
Училась я в Нестерово, это 17 килòметров от Кики. Пошла в школу только в середине сентября, потому что надо было денег заработать: картошку копали, с мамой работала.
Вернулась домой в Кику, а там ни хлеба, ни керосина, ни соли. Мама говорит: «Сходи, может, за солью в Горячинск». Вышла я из Кики в пять утра. До Гремячинска 45 килòметров дошла, там чай попила, и еще 30 – до Горячинска. У меня был мешок с лямками, мне туда 6-7 килограммов соли насыпали. Соль серая, крупная, её толочь надо было.
Вот уже пять часов вечера, паром от Горячинска до Турки закрыт. Двое мальчишек перевезли меня на лодке. Я прыгнула из лодки, да мимо – чуть не утонула. Обувь из овчины размокла, вся мокрая, а идти еще 20 килòметров. Кусок хлеба был с собой, тоже размок. Соль мокрая, отяжелела. Не дошла два километра – вижу, картофельное поле, его китаец в зимовье караулил. Думаю, зайти в зимовье отдохнуть, а боюсь, вдруг китаец подумает, что я воровать картошку пришла, и стрельнет. Подошла все-таки к зимовью, смотрю в окно, а там цыганка и два маленьких цыганёнка поют, пляшут, жарят картошку.
Уже и ночь, двенадцать часов. Цыганка уговаривала остаться до утра, но я пошла до Гремячинска еще два килòметра. Там жила подружка Груша, Ниловская (Нилова). Её отец, дядя Саша Нилов, бурят, был кузнецом. До 41-го года жили в Кике, потом переехали в Гремячинск. Пока шла, страху натерпелась: ночь, темень, Байкал шумит. Я как зашла к Груше – так сразу оглохла и упала, и пролежала два дня! За день прошла 105 километров!
На третий день повезли вербованных, эвакуированных то есть, обратно в их города, и дядя Саша Нилов посадил меня на телегу и отвез до Хаима. Там жил мамин брат дядя Платон. Там я пролежала ещё два дня, потом помогла ему копать картошку, у них своих ребятишек не было. Потом он отвёз меня на коне до Кики.
Училась я в Нестерово, это 17 килòметров от Кики. Пошла в школу только в середине сентября, потому что надо было денег заработать: картошку копали, с мамой работала.

Путь за солью: 105 километров в день. От Кики до Горячинска и обратно до Гремячинска пешком.
Как в лес ходили
В войну это было. Мне лет 12 было. Мы пошли за багульником, исть-то нечего было. Цвет багульника собирали и потом его на молоке ели. Насобирали узлы, и пока ходили там, заблудились. Заблудились, вышли и переход через лаву не могли найти. Там Хандей речка, и там лава, через неё переходить. А мы на неё не могли попасть. Ходим, ходим, ходим, ходим – никак, вокруг да около. Заиграевские, их нету теперь, Катька, Дунька, Молчановска Нюрка. И потом откуда ни возьмись идёт какой-то то ли леший, то ли домовой, не знай, кто. Откуда-то вышел из-за копны, там сена копны стояли.
- Чё вам тут надо?
- Нам надо лаву перейти на ту сторону.
И он скрылся. Показал, что вон там, и всё.
Настоящий старичок, человек, откуда взялся?
Я тебе про Грушу уже рассказывала. Когда шла с солью, у них в Гремячинске ночевала и потом жила у них в бондарке. А до 1942 или 1943 они жили в Кике. Её мать звали бабушка Сусанья. И вот летом 42-го или 43-го мы пошли на Хандей за два килòметра багульник собирать, его цветы ели, молоком заливали. Пошли в горы, багульнику там много было, черёмухи, брусники, чёрного лука – его тоже ели. Бабушка Сусанья с корзинкой была, да так и ушла. Ну она и не бабушка ещё была, ей лет 38-40 было, такая красивая старушка была, ой, нет, женщина. Не знай, почему её бабушкой звали. Мы её кричали-кричали, подумали, что она домой ушла. Вернулись в посёлок – нет.
Ночь ночевали – нет её. Я пришла утром, Груша плачет, её старшая сестра плачет, а старуха одна говорит: «На заре кричите в трубу в русской печке». Кричали. Две ночи прошло – её всё нет. Пошли опять в лес, набрали багульника.
Машин тогда не ходило, только почтовки. Идёт нам навстречу почтовка, Сусанью на коне везут. Страшно на неё смотреть: ноги опухли, как брёвна, комары всю разъели, она ещё с коротким рукавом была. А корзинку с грибами не бросила!
Потом рассказала, что заблудилась, ходила двое суток, боялась, под деревьями сидела. Её пауты, комары, осы допекали. Вышла в Хаиме на покосе за 14 килòметров от Кики. Две речки перешла по упавшим деревьям – Талую и Манжеевку, через гору перешла – и вон куда вышла.
Еле жива осталась, а потом ещё долго жила.
- Чё вам тут надо?
- Нам надо лаву перейти на ту сторону.
И он скрылся. Показал, что вон там, и всё.
Настоящий старичок, человек, откуда взялся?
Я тебе про Грушу уже рассказывала. Когда шла с солью, у них в Гремячинске ночевала и потом жила у них в бондарке. А до 1942 или 1943 они жили в Кике. Её мать звали бабушка Сусанья. И вот летом 42-го или 43-го мы пошли на Хандей за два килòметра багульник собирать, его цветы ели, молоком заливали. Пошли в горы, багульнику там много было, черёмухи, брусники, чёрного лука – его тоже ели. Бабушка Сусанья с корзинкой была, да так и ушла. Ну она и не бабушка ещё была, ей лет 38-40 было, такая красивая старушка была, ой, нет, женщина. Не знай, почему её бабушкой звали. Мы её кричали-кричали, подумали, что она домой ушла. Вернулись в посёлок – нет.
Ночь ночевали – нет её. Я пришла утром, Груша плачет, её старшая сестра плачет, а старуха одна говорит: «На заре кричите в трубу в русской печке». Кричали. Две ночи прошло – её всё нет. Пошли опять в лес, набрали багульника.
Машин тогда не ходило, только почтовки. Идёт нам навстречу почтовка, Сусанью на коне везут. Страшно на неё смотреть: ноги опухли, как брёвна, комары всю разъели, она ещё с коротким рукавом была. А корзинку с грибами не бросила!
Потом рассказала, что заблудилась, ходила двое суток, боялась, под деревьями сидела. Её пауты, комары, осы допекали. Вышла в Хаиме на покосе за 14 килòметров от Кики. Две речки перешла по упавшим деревьям – Талую и Манжеевку, через гору перешла – и вон куда вышла.
Еле жива осталась, а потом ещё долго жила.
Как я вышла в мир
В конце августа 43-го года я приехала с рыбалки домой. В середине сентября пошла в седьмой класс. После каникул в январе 44-го седьмой класс сократили из-за недостатка учителей. Отец и старший брат были на войне, мама – одна, ещё трое ребят, их всех учить надо, а школа в Хаиме.
Я пошла работать с мамой, январь-февраль мы в лесу пилили дрова. Снегу много, по пояс. Сначала снег нужно кругом отгрести, спилить дерево ручной пилой так, чтобы пень 30 сантиметров от земли остался – не больше, сучья обрубить, ствол распилить, потом расколоть и сложить. Норма в день – 10 кубометров. Если не выполнишь, хлеба не получишь. Ели там же, на снегу: чай варили, кусочек хлеба с собой брали.
Мама мне говорит: «Доча, поезжай в Гремячинск». Нарубили табаку-самосаду сменить его на рыбу. С Алексеем мы пошли на санях к рыбакам на озеро Котокель недалеко от Гремячинска.
Рыбаки жили в бараке-землянке, спали на нарах и на полу без постели. Бригадиром у них был Феоктист, звали его еще деда Филя, а рыбаки все – наши годки, табак никому не нужен. Ночевали мы у них, на утро Алексей пошёл обратно в Кику, а я – устраиваться на работу в Гремячинск.
Пришла я к Ниловым, они жили на конюшне. Дядя Саша – бурят, но хороший. У него был друг председатель рыбкоопа, тоже бурят, Николай Николаевич Бардамов. Я представилась сиротой, сказала, что отца на войне убило, мать с голоду умерла, а младшие дети все в детдоме. Он меня пожалел, взял сторожем. Так я с марта по октябрь 44-го караулила днём во дворе, там была портновская мастерская. Потом сено носила, помогала.
Николай Николаевич отправлял меня на курсы продавцов в город. А куда я поеду, там все городские, а мне надеть нечего. Он мне говорит: «Валенки дама, телогрейка дама, 250 рублей стипендии у тебя будет». Но я всё равно не поехала, хоть очень охота было.
У Николая Николаевича была жена Анна Ильинична, добрая женщина, зав. детсадом. Она говорит: «Дай мне Шуру воспитателем», а Николай Николаевич отвечает: «Какой из неё воспитатель, её саму ещё надо воспитывать».
Так я пошла воспитателем. Стала работать в старшей группе, ребятишкам по шесть лет. В саду была новая ограда, а пни ещё не все вытащили. А я научилась их корчевать, когда в лесу смольё добывала: подложить под пень вагу и нажать, раскачать – он и вылезет. Там мы все пни и поубирали. Анна Ильинична называла меня Жан Вальжан – за силу, и Белокурая Изольда – за светлые волосы. Когда Николая Николаевича положили в город в больницу, Анна Ильинична поехала к нему, а меня оставила домовничать с их сыном Лёвой.
Так я и проработала в детсаде пять лет – с марта 1944 по июль 1949 года. Потом дед, Миша мой, пришёл с армии. Работал в Черёмушках и бегал ко мне в Гремячинск.
Я пошла работать с мамой, январь-февраль мы в лесу пилили дрова. Снегу много, по пояс. Сначала снег нужно кругом отгрести, спилить дерево ручной пилой так, чтобы пень 30 сантиметров от земли остался – не больше, сучья обрубить, ствол распилить, потом расколоть и сложить. Норма в день – 10 кубометров. Если не выполнишь, хлеба не получишь. Ели там же, на снегу: чай варили, кусочек хлеба с собой брали.
Мама мне говорит: «Доча, поезжай в Гремячинск». Нарубили табаку-самосаду сменить его на рыбу. С Алексеем мы пошли на санях к рыбакам на озеро Котокель недалеко от Гремячинска.
Рыбаки жили в бараке-землянке, спали на нарах и на полу без постели. Бригадиром у них был Феоктист, звали его еще деда Филя, а рыбаки все – наши годки, табак никому не нужен. Ночевали мы у них, на утро Алексей пошёл обратно в Кику, а я – устраиваться на работу в Гремячинск.
Пришла я к Ниловым, они жили на конюшне. Дядя Саша – бурят, но хороший. У него был друг председатель рыбкоопа, тоже бурят, Николай Николаевич Бардамов. Я представилась сиротой, сказала, что отца на войне убило, мать с голоду умерла, а младшие дети все в детдоме. Он меня пожалел, взял сторожем. Так я с марта по октябрь 44-го караулила днём во дворе, там была портновская мастерская. Потом сено носила, помогала.
Николай Николаевич отправлял меня на курсы продавцов в город. А куда я поеду, там все городские, а мне надеть нечего. Он мне говорит: «Валенки дама, телогрейка дама, 250 рублей стипендии у тебя будет». Но я всё равно не поехала, хоть очень охота было.
У Николая Николаевича была жена Анна Ильинична, добрая женщина, зав. детсадом. Она говорит: «Дай мне Шуру воспитателем», а Николай Николаевич отвечает: «Какой из неё воспитатель, её саму ещё надо воспитывать».
Так я пошла воспитателем. Стала работать в старшей группе, ребятишкам по шесть лет. В саду была новая ограда, а пни ещё не все вытащили. А я научилась их корчевать, когда в лесу смольё добывала: подложить под пень вагу и нажать, раскачать – он и вылезет. Там мы все пни и поубирали. Анна Ильинична называла меня Жан Вальжан – за силу, и Белокурая Изольда – за светлые волосы. Когда Николая Николаевича положили в город в больницу, Анна Ильинична поехала к нему, а меня оставила домовничать с их сыном Лёвой.
Так я и проработала в детсаде пять лет – с марта 1944 по июль 1949 года. Потом дед, Миша мой, пришёл с армии. Работал в Черёмушках и бегал ко мне в Гремячинск.
История с паспортом
Когда наступила Победа, я работала в садике. Слышу, все ликуют , поют, пляшут, спрашиваю: «Что такое?» «Победа!» - говорят.
В декабре 1945 года пришла пора получить паспорт. Из Гремячинска, где я работала, надо было идти в Турунтаево 90 килòметров, а потом ещё обратно. А как идти-то? Я ж на работе. Дали мне три дня отпуска. А не знай, хватит или нет: дойти туда, потом обратно, да не знаешь, сразу дадут паспорт или ждать придётся. Ни машин, ни коней, только почта один раз в день ездит.
В декабре 1945 года пришла пора получить паспорт. Из Гремячинска, где я работала, надо было идти в Турунтаево 90 килòметров, а потом ещё обратно. А как идти-то? Я ж на работе. Дали мне три дня отпуска. А не знай, хватит или нет: дойти туда, потом обратно, да не знаешь, сразу дадут паспорт или ждать придётся. Ни машин, ни коней, только почта один раз в день ездит.

Пошла я пешком до Кики от Гремячинска – 45 килòметров. В Кике у мамы ночевала, потом ещё до Турунтаево 45 килòметров. Получила паспорт в тот же день, удачно. Пошла обратно до Кики, и что-то у меня с ногами сделалось, заболела, и в три дня не уложилась, не вернулась. Пошла в ночь, чтобы успеть, снег валит, темень, декабрь.
Получился у меня день прогула, и заведующая садиком Анна Ильинична, которая меня любила-то, подала на меня в суд. Приехал судья Курбетьев, как зовут – не помню, добрый такой, из Турунтаево. Вызвали в кабинет отдела кадров на рыбзаводе. Пришла к нему, он дал бумагу, говорит, пиши. Я написала: «Чернецкая Александра Николаевна, 1929 года, село Гурулёво». Он спрашивает:
- А Чернецкая Римма кто тебе?
- Мама.
Она, оказывается, у него сено косила, он в Кике его заготавливал. Говорит мне: «Поработаешь у меня с 9 до 17 часов– протоколà писать будешь, писать умеешь?». Просидела я там до вечера, тёмно уже стало, записывала протоколà. Он добрый, сказал заведующей убрать тот прогул и поставить и этот день как отработанный.
Получился у меня день прогула, и заведующая садиком Анна Ильинична, которая меня любила-то, подала на меня в суд. Приехал судья Курбетьев, как зовут – не помню, добрый такой, из Турунтаево. Вызвали в кабинет отдела кадров на рыбзаводе. Пришла к нему, он дал бумагу, говорит, пиши. Я написала: «Чернецкая Александра Николаевна, 1929 года, село Гурулёво». Он спрашивает:
- А Чернецкая Римма кто тебе?
- Мама.
Она, оказывается, у него сено косила, он в Кике его заготавливал. Говорит мне: «Поработаешь у меня с 9 до 17 часов– протоколà писать будешь, писать умеешь?». Просидела я там до вечера, тёмно уже стало, записывала протоколà. Он добрый, сказал заведующей убрать тот прогул и поставить и этот день как отработанный.

Путь за паспортом: 90 километров пешком.
Как маму посадили
Это была война, 44-й год, однако, или в начале 45-го. Работа была тяжелая. Мама заболела, а ни врачей, ни медпункта, ничего не было. Она день на работу не вышла, встать не могла, и на неё подали в суд. Ну всё, был в суд в Гурулёво, 12 киломèтров, и осудили её: «Или шесть месяцев принудительных работ на организацию «Труженик № 2» бесплатно, или 2 месяца тюрьмы». Мама горячая была, крутая, стукнула кулаком по столу: «Лучше в тюрьме просижу, чем на вас, паразитов, работать». Её посадили на два месяца, сидела в Улан-Удэ.
Ну и всё, её забрали. А брат мамин, дядя Степан, он её на поруки взял. Преступление како совершила, да? На поруки взял, а её даже домой не пустили, а у ей две коровы доилось! А я уже работала в Гремячинске, а Полина маленька была, молоденька.
А назавтра её увезли и в тюрьму усадили в Улан-Удэ, в Южлаг. Там ещё женщины были. Просидела там мама дня три или четыре, може, неделю, и говорит: "Дайте мне работу! Если мне работу не дадите, я повешаюсь, не выдюжу". Дали ей женщину, и поехали они работать, дрова пилить там. А деньги у ней на дорогу назад были 50 рублей, она их под подушку положила. А там одна ловкачка была, женщина тоже, она их у ей стёбнула эти деньги, ну и всё. С работы пришли, мама хватилась, а денег нету. А она крутая, к начальнику пошла, и опять как пò столу даст кулаком : "Что это такое!?" Ну она там подозревала, кто. Ну и всё, припугнули эту тётку-то, и она отдала ей эти деньги.
Мама отсидела два месяца, отработала. И домой идёт пешком. До Татауровой на поезде доехала, а от Татауровой 50 килòметров пешком шла. А Полина, где могилки у нас есть, за кровляком, за деревней, она ходила её туда встречать. И приехали председатель и завхоз промартели на коне, и Полина-то домой уже пошла.
- Чё ты тут делашь?
- Маму встречаю, мама должна подойти.
Они даже не подсадили, не подвезли её домой даже. Вот она, бедна, всё ходила и караулила маму. А корову доила тётя Дуся Чебунина, две коровы доилось.
А отец мой, Николай, поехал с шофёром к ней передачу передать, настряпали ей что-то. И не нашёл её! Там загулял, с этим шофёром-то, и про жену забыл! И он ничего ей не передал. А потом до конца смерти она его корила. Семён, брат, в армии на войне был, а отец с войны вернулся уже.
Вот отсидела ни за что два месяца, ещё и деньги у неё украли. Вот такая история. А за что будто? Будто какое преступлением совершила, даже домой не отпустили.
Ну и всё, её забрали. А брат мамин, дядя Степан, он её на поруки взял. Преступление како совершила, да? На поруки взял, а её даже домой не пустили, а у ей две коровы доилось! А я уже работала в Гремячинске, а Полина маленька была, молоденька.
А назавтра её увезли и в тюрьму усадили в Улан-Удэ, в Южлаг. Там ещё женщины были. Просидела там мама дня три или четыре, може, неделю, и говорит: "Дайте мне работу! Если мне работу не дадите, я повешаюсь, не выдюжу". Дали ей женщину, и поехали они работать, дрова пилить там. А деньги у ней на дорогу назад были 50 рублей, она их под подушку положила. А там одна ловкачка была, женщина тоже, она их у ей стёбнула эти деньги, ну и всё. С работы пришли, мама хватилась, а денег нету. А она крутая, к начальнику пошла, и опять как пò столу даст кулаком : "Что это такое!?" Ну она там подозревала, кто. Ну и всё, припугнули эту тётку-то, и она отдала ей эти деньги.
Мама отсидела два месяца, отработала. И домой идёт пешком. До Татауровой на поезде доехала, а от Татауровой 50 килòметров пешком шла. А Полина, где могилки у нас есть, за кровляком, за деревней, она ходила её туда встречать. И приехали председатель и завхоз промартели на коне, и Полина-то домой уже пошла.
- Чё ты тут делашь?
- Маму встречаю, мама должна подойти.
Они даже не подсадили, не подвезли её домой даже. Вот она, бедна, всё ходила и караулила маму. А корову доила тётя Дуся Чебунина, две коровы доилось.
А отец мой, Николай, поехал с шофёром к ней передачу передать, настряпали ей что-то. И не нашёл её! Там загулял, с этим шофёром-то, и про жену забыл! И он ничего ей не передал. А потом до конца смерти она его корила. Семён, брат, в армии на войне был, а отец с войны вернулся уже.
Вот отсидела ни за что два месяца, ещё и деньги у неё украли. Вот такая история. А за что будто? Будто какое преступлением совершила, даже домой не отпустили.
Как дети потерялись
Это было в 1946 году, после войны. Я работала в садике в Гремячинске, у меня была старшая группа, шесть-семь лет ребятишкам, и младшая группа, три годика. Пошли все на прогулку, человек 50-60, кругом лес недалеко, за 500 метров. Мара, вторая воспитатель, говорит мне: «Ты пока покарауль, а я посплю». Мы молодые были, вечером на танцы, туда-сюда, а потом спать охота. Мы с ней так по очереди спали. Она легла, а мы с ребятишками гербарий собирали, жучков, цветочки.
В младшей группе был Пека Карасёв – он Петя вообще-то, но его Пекой звали, ему три годика было, а его старший брат Ваня – в моей, старшей группе был. Так вот Пека ушёл в лес, улёгся в кусты и заснул. Мара проснулась, а тут уже около пяти часов вечера, нянечка пришла, говорит, на ужин наладила всё. Детей построили, а Рива-евреечка из старшей группы говорит: «Пека Карасёв потерялся, Пека Карасёв потерялся!». Мы его давай искать, а что делать, время идёт, других пора кормить. А как идти – ребёнка-то не нашли! Но вернулись в садик, накормили ужином.
У матери Пеки было семеро детей, отец с войны ещё не вернулся, дослуживал. А после войны хлеба совсем мало было, давали мало, продавали коммерческий за 200 рублей булка, по головам просто ходили! Мать Пеки стояла в очереди, а магазин был в той же ограде, где заведующая садиком жила. К ней прибежали, сказали, что Пека потерялся, в очереди говорить стали. Мать как услышала – в обморок тут же упала.
Заведующая прибежала чехвостить нас, страшно ругалась, говорила, сгноит нас, всё, тюрьма.
Детей мы накормили, по домам проводили, и тут является наш Пека. Две девушки, наши ровесницы, работали в лесу, шли по тропинке. А Пека выспался, вылез из кустов, вышел на тропинку, а куда идти – кругом лес. Хорошо, девушки эти шли, привели его в сад. Он весь обкакался, а мы с Марой так обрадовались, как его увидели! Помыли, накормили, увели домой. От тюрьмы спаслись.
Второй случай был в том же году, к осени. Пошли на прогулку по бруснику туда, где река Кика в Байкал впадает. Лёня Жуков мальчик был, шесть лет ему. Пока мы про паучков-жучков рассказывали и гербарий собирали, он отошёл. 35 человек в группе было, сразу и не заметишь, кого не хватает. Стали собираться домой – нет его. Кричали, всё обшарили – нет. Вернулись домой. Облава целая началась, МЧСа не было, но службы-то какие-то были. Отец Лёни на складах работал. Так и не нашли. Мы с Марой чуть не повесились.
Наутро приводят его рыбаки. Он ночевал в лесу. Рассказывает: «Пришёл дядька – то ли домовой, то ли лесной, говорит, мол, пойдём, Лёня, там ягод много». И увёл его. И, рассказывает, много ягод и грибов в корзинку они насобирали, хоть корзинки у него никакой с собой не было.
Это всё не сказки, это всё, Оля, на моих глазах было, на моей памяти.
В младшей группе был Пека Карасёв – он Петя вообще-то, но его Пекой звали, ему три годика было, а его старший брат Ваня – в моей, старшей группе был. Так вот Пека ушёл в лес, улёгся в кусты и заснул. Мара проснулась, а тут уже около пяти часов вечера, нянечка пришла, говорит, на ужин наладила всё. Детей построили, а Рива-евреечка из старшей группы говорит: «Пека Карасёв потерялся, Пека Карасёв потерялся!». Мы его давай искать, а что делать, время идёт, других пора кормить. А как идти – ребёнка-то не нашли! Но вернулись в садик, накормили ужином.
У матери Пеки было семеро детей, отец с войны ещё не вернулся, дослуживал. А после войны хлеба совсем мало было, давали мало, продавали коммерческий за 200 рублей булка, по головам просто ходили! Мать Пеки стояла в очереди, а магазин был в той же ограде, где заведующая садиком жила. К ней прибежали, сказали, что Пека потерялся, в очереди говорить стали. Мать как услышала – в обморок тут же упала.
Заведующая прибежала чехвостить нас, страшно ругалась, говорила, сгноит нас, всё, тюрьма.
Детей мы накормили, по домам проводили, и тут является наш Пека. Две девушки, наши ровесницы, работали в лесу, шли по тропинке. А Пека выспался, вылез из кустов, вышел на тропинку, а куда идти – кругом лес. Хорошо, девушки эти шли, привели его в сад. Он весь обкакался, а мы с Марой так обрадовались, как его увидели! Помыли, накормили, увели домой. От тюрьмы спаслись.
Второй случай был в том же году, к осени. Пошли на прогулку по бруснику туда, где река Кика в Байкал впадает. Лёня Жуков мальчик был, шесть лет ему. Пока мы про паучков-жучков рассказывали и гербарий собирали, он отошёл. 35 человек в группе было, сразу и не заметишь, кого не хватает. Стали собираться домой – нет его. Кричали, всё обшарили – нет. Вернулись домой. Облава целая началась, МЧСа не было, но службы-то какие-то были. Отец Лёни на складах работал. Так и не нашли. Мы с Марой чуть не повесились.
Наутро приводят его рыбаки. Он ночевал в лесу. Рассказывает: «Пришёл дядька – то ли домовой, то ли лесной, говорит, мол, пойдём, Лёня, там ягод много». И увёл его. И, рассказывает, много ягод и грибов в корзинку они насобирали, хоть корзинки у него никакой с собой не было.
Это всё не сказки, это всё, Оля, на моих глазах было, на моей памяти.
Заседание в Таланках
Я в Таланках работала. Рыболовецкий пост Таланки назывались, на Байкале. От Гремячинска только по Байкалу, по воде туда попадали. Я хотела завербоваться на Север, там дядя был Чернецкий, и я – Чернецкая, ну и я хотела с ним завербоваться и уехать. А меня директор вызвал – я уже в садике в Гремячинске работала – и говорит:
- Я тебе дам командировку.
- Куда?
- Поедешь в Таланки организовать детсад. Там рыбаки, ребятишек восемь человек. Туда поедешь, всё там организуешь и будешь там работать. Вот тебе и путёвка.
- Я тебе дам командировку.
- Куда?
- Поедешь в Таланки организовать детсад. Там рыбаки, ребятишек восемь человек. Туда поедешь, всё там организуешь и будешь там работать. Вот тебе и путёвка.

Александра
Там народу-то мало было. И вот приехали собрание делать. Директор бурят был. И вот что они там на собрании говорят. Один встал, Кеша. У него работа тяжёлая, бочки делали, строгали, то да сё, а хлеба ни черта не давали, 400 грамм. А мужику чё эти 400 грамм, кого? Ну и вот, он встал и говорит: «Ох, тружусь-работаю, работаю за 400 грамм, мордочки-то уж ничё не стало».
А меня выбрали секретарём писать сидеть прòтокол.
Была тётя Пана шерсотка[65] Разуваева, она соскочила: «Дак вот чё, наш-то, всю простоквашу съел, наш-то!»
А директор: «Это вы в местном порядке разберётесь, это дела не касается!»
А мне смех такой!
Потом там был такой удмур Корепанов, у него шестеро ребятишек было, а жена у него какая-то непутная была. Он звонарём работал. Диск от машины повесили, он ходил и железной колотушкой колотил. Утром в 7 часов, в 8 часов, на обед 12 раз стукнет, час стукнет, на ужин. А ещё Чистяков был, дедушка Чистяков, такой хрипатый. Ну и вот этот Корепанов встал - какой-то он деятель был политический – и говорит: «Прошу меня избрать в президиум». А Чистяков встал и говорит:
- Вас никто не так не называт, товарищ Корррепанов, так хоть сам себя.
- Ну а как же, мы усе товарыщи!
Я сижу, у меня морда красная вся от смеху! Розово платье было и красна беретка, и всё лицо у меня под цвет.
У Корепанова Васька ходил в садик, у него всё время кишочка из попы вылазила. А хлеба-то давали сколько-то, а я в мешочки всем положу, у кого останется: «Корепанов, Пискунов, Чистяков», и у всех в мешочках куски хлеба висели. Корепанов встал: «Вот чё, тут вот воспитательница Чернецкая, не смотрит ничё. Ванька Пискунов да у моего Васьки хлеб съел!» Ой караул! Я чуть со стыда не сгорела. А директор говорит: «Потом, это к делу не касается. У нас план рыбодòбычи, план, план, план, а это не наше дело, сами разбирайтесь». Вот таки дела. Сколько лет прошло, а помню. Помирать буду – не забуду.
Потом там садик закрыли. Я организовала его, была как заведующая и воспитатель, и была у меня старуха Варвара, она была как повар и уборщица. Я там жила с Надькой продавщицей, там же, в комнатке. Это было в 46 или 47 году, то ли 16, то ли 17 мне было.
(записано в 2018 году, видео - 2009 года)
А меня выбрали секретарём писать сидеть прòтокол.
Была тётя Пана шерсотка[65] Разуваева, она соскочила: «Дак вот чё, наш-то, всю простоквашу съел, наш-то!»
А директор: «Это вы в местном порядке разберётесь, это дела не касается!»
А мне смех такой!
Потом там был такой удмур Корепанов, у него шестеро ребятишек было, а жена у него какая-то непутная была. Он звонарём работал. Диск от машины повесили, он ходил и железной колотушкой колотил. Утром в 7 часов, в 8 часов, на обед 12 раз стукнет, час стукнет, на ужин. А ещё Чистяков был, дедушка Чистяков, такой хрипатый. Ну и вот этот Корепанов встал - какой-то он деятель был политический – и говорит: «Прошу меня избрать в президиум». А Чистяков встал и говорит:
- Вас никто не так не называт, товарищ Корррепанов, так хоть сам себя.
- Ну а как же, мы усе товарыщи!
Я сижу, у меня морда красная вся от смеху! Розово платье было и красна беретка, и всё лицо у меня под цвет.
У Корепанова Васька ходил в садик, у него всё время кишочка из попы вылазила. А хлеба-то давали сколько-то, а я в мешочки всем положу, у кого останется: «Корепанов, Пискунов, Чистяков», и у всех в мешочках куски хлеба висели. Корепанов встал: «Вот чё, тут вот воспитательница Чернецкая, не смотрит ничё. Ванька Пискунов да у моего Васьки хлеб съел!» Ой караул! Я чуть со стыда не сгорела. А директор говорит: «Потом, это к делу не касается. У нас план рыбодòбычи, план, план, план, а это не наше дело, сами разбирайтесь». Вот таки дела. Сколько лет прошло, а помню. Помирать буду – не забуду.
Потом там садик закрыли. Я организовала его, была как заведующая и воспитатель, и была у меня старуха Варвара, она была как повар и уборщица. Я там жила с Надькой продавщицей, там же, в комнатке. Это было в 46 или 47 году, то ли 16, то ли 17 мне было.
(записано в 2018 году, видео - 2009 года)
[65] Слабоумная женщина с непричёсанными торчащими во все стороны волосами
Истории про цыган
Цыгане приезжали. На той стороне за речкой поляна была, вот там цыгане и маленькие цыганяты, все пляшут, поют, выпрашивают хлебушко, то-сё. Потом одна цыганка пришла с цыганёнком, а Валере, моему сыночке старшему, было лет шесть. Она посмотрела на его и говорит мне: «Он у вас мальчик недолговекий, он утонет на воде». Вот так она мне сказала, я и не думала ничего, отдала ей да отдала, что надо. И вот правильно, только 30 лет ему исполнилось – утонул ни с того ни с сего.
А потом одна цыганка ходила по деревне ворожить. И, главно, они приезжали на конях, кони у них таки красивы, в упряжке. И то ли у ней гипноз какой был, то ли что – не знаю, она взяла у тёти Дуси Чебуниной, царство небесное, нет её уже, она вроде неглупая женщина-то была. И та ей что-то наговорила-наговорила, и она ей курицу с петухом отдала! Потом Дуся очухалась, побежала отбирать, а кого она отберёт!
Цыганка ещё пошла через дорогу, там Заиграевские жили. Ванька был мой годок, они уже жили, у вот она ему ворожила-ворожила, говорила–говорила, и он ей много рыбы отдал! Под кроватью много рыбы солёной стояло – хариус или омуль, он её спровадил. Она потом когда ушла, он хватился, говорит: «Зачем я, собственно, ей отдал? Чё она сказала? Ничё и не сказала такого доброго-то». Побежали за мост, а чик – они уже все уехали.
У мамы с тятей в амбаре масло стояло, она накопила на сдачу, была же заготовка, сдавали масло: с одной коровы – два с половиной килограмма, а с двух коров пять надо. У мамы сепаратор был, она перегонит всё. Мы молоко-перегон пили, а масло – где мы его увидим! Оно в амбаре стояло, она его смешала, кусок килограмма два или три в воде стоял. И цыганка пришла. Что она ей ворожила, что говорила – не помню. Только она сказала: «Встанете утром, придите в амбар, и у вас там чё-то будет». То ли товар, ткань то есть, какой, то ли чё – не знай. Ну и мама ничё не дала ей, потому что тятя не любил цыган, ох, как не любил их. Ну и всё. А потом утром пошла мама в амбрар, а масла-то нету, тю-тю. Цыганка зашла да взяла, амбар-то не замыкался. Мы там спали на полу летом, лохмотья положим и спим там кучей. Вот такие цыгане были.
Я уже работала, в Гремячинске жила у Лиды. А Лида была сирота, она мой годок, их пятеро детей было. Отца на фронте убили, а мать от голода умерла. А Лидка влюбилась, там Сашка был, бухгалтер, Вторушин. Она по нему с ума сходила. Цыганка пришла, а Лида хотела что-то сделать, чтоб приворожить его. А меня не было, я ж была политический деятель, секретарь комсомольской организации, на собрании, то туда, то туда. У Лиды был чемодан, а в чемодане товар давношний лежал, ещё от матери. Лида цыганке рыбы дала, брат Гошка рыбачил, штук десять дала. А та потом говорит: «У тебя там чемодан, в нём товар лежит». А Лида говорит: «Это не мой, чемодан подруги». И не дала ей, только рыбу.
Я пришла, она мне рассказала, а я ей говорю: «Ты чё, сдурела чё ли, как хоть товар не отдала?». А Сашку она не приворожила. Он дружил с Машкой, как её, дяди Толина жена была, Пана, Маруська вот была у них ровесница сестра, она работала в конторе бухгалтером, Сашка с ней дружил. А Лида, что Лида, она бедная же, несчастная, четверо детей на её шее, никуда не ходила, трудилась знала. И ничё она его не приворожила. И рыбу зря отдала. А Гошка-то приехал, спросил, где рыба, она сказала, что съели.
Мы тут уже жили, в Устье, в каком году-то, ну в этих годах уже. Мы не имели с Лидой связи никакой. Она жила в Улан-Удэ, ездила на курорт в Кучегэр и на обратном пути заехала. У нас какой-то народ был, Залуцкий был, Андрюша с другом из Якутии, Татьяна, кажется, на каникулах. Я Лиду сначала-то не узнала, потом она заночевала у нас. Она замуж вышла, мужика схоронила, две дочки у неё взрослых. Мы потом с ней на Байкал сходили. Гошка брат женился, второй брат Генка помёр где-то, а ещё маленькая девчонка у них была, Валька. Я когда у них жила, ей лет пять или меньше было, она всё время плакала: «Лида, я хлеба хочу, Лида, я хлеба хочу!» Она ей: «Где я тебе хлеба-то возьму!» По 200 грамм давали, война же. Мне её так жалко было. Потом она повзрослела, замуж вышла.
Лида потом уехала, отправила две фотки дочкиных, думаю, ребята-то понравились, все живы ещё были. Она, может, хотела соединить, познакомить. А я и не подумала, она ж не сказала, что дарю, и я ей обратно фотокарточки отправила. И она на меня обиделась, перестала писать, и всё. И ей тоже жизнь выдалась, мужик у неё какой-то хохол, она на Украине была, пахала, как труженица, бедная Лида, не знаю, жива или нет. Потеряли мы связь с ней, это я, дура.
Я дедушку не привораживала, я его с малолетства сильно полюбила – и на всю жизнь.
А потом одна цыганка ходила по деревне ворожить. И, главно, они приезжали на конях, кони у них таки красивы, в упряжке. И то ли у ней гипноз какой был, то ли что – не знаю, она взяла у тёти Дуси Чебуниной, царство небесное, нет её уже, она вроде неглупая женщина-то была. И та ей что-то наговорила-наговорила, и она ей курицу с петухом отдала! Потом Дуся очухалась, побежала отбирать, а кого она отберёт!
Цыганка ещё пошла через дорогу, там Заиграевские жили. Ванька был мой годок, они уже жили, у вот она ему ворожила-ворожила, говорила–говорила, и он ей много рыбы отдал! Под кроватью много рыбы солёной стояло – хариус или омуль, он её спровадил. Она потом когда ушла, он хватился, говорит: «Зачем я, собственно, ей отдал? Чё она сказала? Ничё и не сказала такого доброго-то». Побежали за мост, а чик – они уже все уехали.
У мамы с тятей в амбаре масло стояло, она накопила на сдачу, была же заготовка, сдавали масло: с одной коровы – два с половиной килограмма, а с двух коров пять надо. У мамы сепаратор был, она перегонит всё. Мы молоко-перегон пили, а масло – где мы его увидим! Оно в амбаре стояло, она его смешала, кусок килограмма два или три в воде стоял. И цыганка пришла. Что она ей ворожила, что говорила – не помню. Только она сказала: «Встанете утром, придите в амбар, и у вас там чё-то будет». То ли товар, ткань то есть, какой, то ли чё – не знай. Ну и мама ничё не дала ей, потому что тятя не любил цыган, ох, как не любил их. Ну и всё. А потом утром пошла мама в амбрар, а масла-то нету, тю-тю. Цыганка зашла да взяла, амбар-то не замыкался. Мы там спали на полу летом, лохмотья положим и спим там кучей. Вот такие цыгане были.
Я уже работала, в Гремячинске жила у Лиды. А Лида была сирота, она мой годок, их пятеро детей было. Отца на фронте убили, а мать от голода умерла. А Лидка влюбилась, там Сашка был, бухгалтер, Вторушин. Она по нему с ума сходила. Цыганка пришла, а Лида хотела что-то сделать, чтоб приворожить его. А меня не было, я ж была политический деятель, секретарь комсомольской организации, на собрании, то туда, то туда. У Лиды был чемодан, а в чемодане товар давношний лежал, ещё от матери. Лида цыганке рыбы дала, брат Гошка рыбачил, штук десять дала. А та потом говорит: «У тебя там чемодан, в нём товар лежит». А Лида говорит: «Это не мой, чемодан подруги». И не дала ей, только рыбу.
Я пришла, она мне рассказала, а я ей говорю: «Ты чё, сдурела чё ли, как хоть товар не отдала?». А Сашку она не приворожила. Он дружил с Машкой, как её, дяди Толина жена была, Пана, Маруська вот была у них ровесница сестра, она работала в конторе бухгалтером, Сашка с ней дружил. А Лида, что Лида, она бедная же, несчастная, четверо детей на её шее, никуда не ходила, трудилась знала. И ничё она его не приворожила. И рыбу зря отдала. А Гошка-то приехал, спросил, где рыба, она сказала, что съели.
Мы тут уже жили, в Устье, в каком году-то, ну в этих годах уже. Мы не имели с Лидой связи никакой. Она жила в Улан-Удэ, ездила на курорт в Кучегэр и на обратном пути заехала. У нас какой-то народ был, Залуцкий был, Андрюша с другом из Якутии, Татьяна, кажется, на каникулах. Я Лиду сначала-то не узнала, потом она заночевала у нас. Она замуж вышла, мужика схоронила, две дочки у неё взрослых. Мы потом с ней на Байкал сходили. Гошка брат женился, второй брат Генка помёр где-то, а ещё маленькая девчонка у них была, Валька. Я когда у них жила, ей лет пять или меньше было, она всё время плакала: «Лида, я хлеба хочу, Лида, я хлеба хочу!» Она ей: «Где я тебе хлеба-то возьму!» По 200 грамм давали, война же. Мне её так жалко было. Потом она повзрослела, замуж вышла.
Лида потом уехала, отправила две фотки дочкиных, думаю, ребята-то понравились, все живы ещё были. Она, может, хотела соединить, познакомить. А я и не подумала, она ж не сказала, что дарю, и я ей обратно фотокарточки отправила. И она на меня обиделась, перестала писать, и всё. И ей тоже жизнь выдалась, мужик у неё какой-то хохол, она на Украине была, пахала, как труженица, бедная Лида, не знаю, жива или нет. Потеряли мы связь с ней, это я, дура.
Я дедушку не привораживала, я его с малолетства сильно полюбила – и на всю жизнь.
Истории про крыс
Это в 47-м году было, дедушка только с армии пришёл и устроился на работу в колонию, от нас 15 килòметров. Он там в магазинчике работал, сигареты, лапшу продавал. И приехала к нему ревизия. Всё закрыто, замок, ничего не сломано, окошки целы, никто не лазил, а серебрушек – денег, дорогие тогда они были – нет. Бумажные-то он сдал, а эти, монетами, у него в ящичке были. Посмотрел, а у него там ни копейки серебряной нету, одни медяки. А там был старичок-зэк, он и говорит: «Надо открывать пол, где дырка есть – это крыса стаскала». Ну и пол оторвали, плашку, а там – стопками: двадцатки' с двадцтками, пятнадцатушки с пятнадцатушками, десятки с десятками, все стопками сложены. А медяки крыса не взяла.
А вторая история – с пельменями. Мы уже жили, у нас Валера и Боря были, в зимовьюшке жили. Дедушка собрался на охоту с Артамоном, с отцом. А мы-то худо ещё жили, моя мама дала мяса, а его – муки, и мы настряпали пельменей 150 штук, вот таки больши. Он там на охоте сварит три штуки – и всё, наелся, такие большущие. На противень 150 штук склали. А там амбар был, я уташила, замкнула, на чурку поставила противень.
Дедушка Артамон утром в пять часов пришёл: «Ну чё, собрался – нет?» Он говорит: «Нет ещё». Я пошла за пельменями-то. Открываю – а пельменей нету, всего три штуки прилипло в уголке, а 147 нету. Прихожу, притащила противень, дедушка давай меня ругать: «Ты, наверное, не закрыла, собаки утащили». Каки собаки, замок был! А дедушка Артамон-то тоже ушлый, умный был старик, он говорит: «Надо смотреть, где дырка есть в полу, это крыса стаскала». Взяли лом, оторвали доску, где дырка была, подняли половицу, а они, пельмени, один к одному складены, как на противне лежали. И это не враньё, я это своими глазами видела. И даже ни одного крыса не успела съесть. Она, видимо, всю ночь работала, не успела.
И тут у нас крысы были, по избе ходили, белы. У Демидовских, соседей, всю жизнь рыба была, а они у нас ходили. Залезу в буфет – а крыса полбулки хлеба съела. Раз сидим за столом, а она дверку открыла, и выпала оттуда довольна-довольна, раздулась вся, полбулки съела. Боря стуканул её, прибил, но не до смерти, выбросил её, а она отжила и убежала.
Они, крысы, потом вылазили и около кровати танцевали, штуки три. Встанут на задние лапки – и танцуют.
Истории про сглаз
Колдовка была Анна, а мужик у неё Филипп, звали её Анюша Филиха, колдовка. Она приходила к бабе Стёпе всё время, к дедушкиной матери. И вот она рассказывала, говорит: "Я если захочу кого испортить, так я всё сделаю, чё надо. А если на кого рассержусь, да жалко, я всё на лес, на лес спускаю!"
И вот один раз тётка Прасковья, сестра дедушки Артамона, работала на ферме в колхозе в Батурино. И вот она, Анюша, на её рассердилась, на фоне ревности, и чё-то сделала ей. Тётка Прасковья идёт с работы, и всё, её опоясало кругом, спина отнялась. И она ни встать, ни лечь, ничё не может. Надо на работу утром идти - подняться не может, и окошки ставнями закрыты. И потом вдруг ставня открылась, и она заходит в дверь, эта Анюша Филиха, и говорит:
- Ты чё, ты чё, Прасковья, чё с тобой?
- Не знаю, Анна Степановна - так её звали.
Прасковья-то не знала, что это Анюша на неё хомут-то одела. Они молоды были, сорока не было. Тётя Паша красивая така была, а мужика у ей в первый день войны убило. Когда церкву разрушали, кресты сбрасывали в Батурино, её мужик, тёти Пашин-то, ломал, разорял, сбрасывал колокола. А у ей четверо ребят, у тёти Паши-то, было. Все маленьки, она в колхозе работала.
А потом, когда окошки открылись, та зашла и говорит: "Хорошо, что окошки-то открылись. Ставни бы не открылись - дак ты бы умерла, не встала б".
Меня как-то сглазили в бане. Мы приехали на похороны с дедушкой, и с Полиной пошли в баню в Кике. А там была соседка, Щербачиха, банщица. А я тогда молодая была, здоровая, видная. Давай она в бане мыть, шоркать спину: "Ооой, да чё пребравая-то, да у тебя тело-то как у молодой!". Ну и ой да ой.
Ну и всё. Домой-то пришли, а надо тесто ставить, как раз то ли Шурочку, то ли Володю хоронили, поминки завтра. А я: "Ай, ай" - и всё. Трясёт всю. Погибель! А Подложнючиха тётя Таня была, она говорит: "Ой, девка, да тебя сглазили". Налила воды, взяла уголь горячий, бросила его в воду, почертила, набрызгала меня везде, попила я. И я тут же как мёртвая уснула, тут же. Вот меня эта банщица и сглазила.
А тятя, покойничек, говорил мне всегда: "Ты когда моешься, ты левой стороной подола утирайся, тебя никто не сглазит".
Это в Усть-Баргузине уже было. В сетке на ворота утиные шеи и головы поддели. И отчего бы. Таня тогда приезжала с Таней Шульгиной в гости, и мы ходили к Воронинским. От них идём, и она, эта баба, подметала за оградой. А солнце уже на закат. Я просто, с простой души сказала:
- Ты чё метешь, на ночь-то?
- А тебе какое дело?
- Да, говорят, на ночь-то нельзя мести.
Ну и всё. Таня с Таней в кино ушли, а я давай ужин варить, то да сё. А потом вышла за ограду, смотрю - две бабы убежали от ворот и за садик спрятались. Я стала ворота открывать, а висит сетка, и там эти головы. Страшны таки! Что делать? Я не растерялась, надела рукавицы, взяла щипцы, разожгла за оградой огонь, щепок насобирала, и сожгла их. Ямку выкопала и закопала.
А оне сдохли, которые весили-то. Вот таки дела. Было такое.
И вот один раз тётка Прасковья, сестра дедушки Артамона, работала на ферме в колхозе в Батурино. И вот она, Анюша, на её рассердилась, на фоне ревности, и чё-то сделала ей. Тётка Прасковья идёт с работы, и всё, её опоясало кругом, спина отнялась. И она ни встать, ни лечь, ничё не может. Надо на работу утром идти - подняться не может, и окошки ставнями закрыты. И потом вдруг ставня открылась, и она заходит в дверь, эта Анюша Филиха, и говорит:
- Ты чё, ты чё, Прасковья, чё с тобой?
- Не знаю, Анна Степановна - так её звали.
Прасковья-то не знала, что это Анюша на неё хомут-то одела. Они молоды были, сорока не было. Тётя Паша красивая така была, а мужика у ей в первый день войны убило. Когда церкву разрушали, кресты сбрасывали в Батурино, её мужик, тёти Пашин-то, ломал, разорял, сбрасывал колокола. А у ей четверо ребят, у тёти Паши-то, было. Все маленьки, она в колхозе работала.
А потом, когда окошки открылись, та зашла и говорит: "Хорошо, что окошки-то открылись. Ставни бы не открылись - дак ты бы умерла, не встала б".
Меня как-то сглазили в бане. Мы приехали на похороны с дедушкой, и с Полиной пошли в баню в Кике. А там была соседка, Щербачиха, банщица. А я тогда молодая была, здоровая, видная. Давай она в бане мыть, шоркать спину: "Ооой, да чё пребравая-то, да у тебя тело-то как у молодой!". Ну и ой да ой.
Ну и всё. Домой-то пришли, а надо тесто ставить, как раз то ли Шурочку, то ли Володю хоронили, поминки завтра. А я: "Ай, ай" - и всё. Трясёт всю. Погибель! А Подложнючиха тётя Таня была, она говорит: "Ой, девка, да тебя сглазили". Налила воды, взяла уголь горячий, бросила его в воду, почертила, набрызгала меня везде, попила я. И я тут же как мёртвая уснула, тут же. Вот меня эта банщица и сглазила.
А тятя, покойничек, говорил мне всегда: "Ты когда моешься, ты левой стороной подола утирайся, тебя никто не сглазит".
Это в Усть-Баргузине уже было. В сетке на ворота утиные шеи и головы поддели. И отчего бы. Таня тогда приезжала с Таней Шульгиной в гости, и мы ходили к Воронинским. От них идём, и она, эта баба, подметала за оградой. А солнце уже на закат. Я просто, с простой души сказала:
- Ты чё метешь, на ночь-то?
- А тебе какое дело?
- Да, говорят, на ночь-то нельзя мести.
Ну и всё. Таня с Таней в кино ушли, а я давай ужин варить, то да сё. А потом вышла за ограду, смотрю - две бабы убежали от ворот и за садик спрятались. Я стала ворота открывать, а висит сетка, и там эти головы. Страшны таки! Что делать? Я не растерялась, надела рукавицы, взяла щипцы, разожгла за оградой огонь, щепок насобирала, и сожгла их. Ямку выкопала и закопала.
А оне сдохли, которые весили-то. Вот таки дела. Было такое.
Истории про ружьё
Это было в Кике. Валере было 11 лет, Боре – 10, Тане – 8, Коле – 2, Андрюше – полгодика.
Откосили всё, убрали. В сентябре месяце в 63-м году дедушка уехал на рыбалку, Валера ходил на секцию на физкультуру. А раньше были такие штаны шкеры, теперь называются спортивные брюки. Валера прибежал домой, а Боря надел его шкеры, взял ружьё и пошли они в лес. Лес-то рядом был, и они так через огород и пошли, ещё соседских два мальчика – один Суменковский, один Игумновский. Ну и Валера прибежал и побежал догонять его.
Пока в огороде возились, ружьё выстрелило – и Боре руку оторвало от локтя, все мягкое место до самой до кисти всё вырвало, ой ужас один. Сентябрь месяц был, мы только в город съездили, Тане пальто купили зимнее. У Бори кровища бежит, мясо болтается, я так завязала кушаком от пальто, чтобы кровь не бежала, а она льётся, бежит и бежит. А тут больницы-то нет, только за 45 килòметров в Турунтаево.
В Кику приходила скорая как раз, старуха какая-то болела. И друг прибежал, сказал, что вот мальчик прострелился, а фельдшер говорит: «Мы не на прострелянных ездили, мы на вызов ездили». Но взяли. А Андрюша маленький был, полгодика ему, грудной, куда я поеду, и Полина повезла Борю в Турунтаево, с ним на скорой поехала. А соседскому парнишке дробинка в ухо попала – прострелила хрящ. На завтра утром поехала в Турунтаево, а Боря такой длинный-длинный, высокий, бледный, но и всё, забинтованный, пролежал там неделю. И мама того парнишки, которому дробинка в ухо попала, привезла его, ему из хряща её вытащили. А дробинка у Бори так и осталась в руке, с этой дробинкой так и умер. В армию пошёл – её не вытащили, под кожей и бегала. Ну ничего, господь миловал, живой – живой.
Второй случай был, мы уже в Усть-Баргузине жили. Переехали туда в мае 1965, жили там на Ватутина, а это по осени уже было. Дедушка из лесу приехал, он охотник был, а ружьё заряжено было. Он ушёл в общежитие – тут рядом общежитие было, там подсочники жил.
Я взяла ведро, пошла доить корову. С кухни прямо выход был, крыльцо в улицу выходило, а с крыльца в ограду идёшь. Ну я пошла, взяла подойник. По коридору только подхожу к дверям-то – как стрельнет мимо меня, справа, вот сантиметров пять или шесть прямо в колоду, в дверной косяк то есть, пуля! Чуть-чуть – и мне бы прямо в затылок. Я так испугалась, ведро бросила, говорю: «Вы что делаете-то?»
Ребятишки уж большеньки были, Валере было 15 лет, а Боре 14, они с ружьём играли, не знали, что оно заряжено. Дедушка оставил и не сказал, а они что, ребятишки, им ружьё надо. Я потом ничего, подоила, всё нормально, целая - невредимая осталась, только испугалась шибко. И что, Оля, думаешь? У меня ночью открылось кровотечение от испуга. Я говорю: «Доча, беги, скажи, что мама заболела». Тут медпункт был рядом, участковый был фельдшер Дина Петровна, хорошая врач. Она тут же пришла, и меня в больницу. Я потом на этом испуге, на нервной почве и заболела.
Я пока в больнице долго лежала, они корову зарубили, которая плакала, Звёздочку; телёнка Черныша зарубили, съели, тёлку загубили, она вся высохла, куриц было 25 штук, они их заморили, кого они будут их кормить-то тут.
Вот так чудом жива осталась.
Откосили всё, убрали. В сентябре месяце в 63-м году дедушка уехал на рыбалку, Валера ходил на секцию на физкультуру. А раньше были такие штаны шкеры, теперь называются спортивные брюки. Валера прибежал домой, а Боря надел его шкеры, взял ружьё и пошли они в лес. Лес-то рядом был, и они так через огород и пошли, ещё соседских два мальчика – один Суменковский, один Игумновский. Ну и Валера прибежал и побежал догонять его.
Пока в огороде возились, ружьё выстрелило – и Боре руку оторвало от локтя, все мягкое место до самой до кисти всё вырвало, ой ужас один. Сентябрь месяц был, мы только в город съездили, Тане пальто купили зимнее. У Бори кровища бежит, мясо болтается, я так завязала кушаком от пальто, чтобы кровь не бежала, а она льётся, бежит и бежит. А тут больницы-то нет, только за 45 килòметров в Турунтаево.
В Кику приходила скорая как раз, старуха какая-то болела. И друг прибежал, сказал, что вот мальчик прострелился, а фельдшер говорит: «Мы не на прострелянных ездили, мы на вызов ездили». Но взяли. А Андрюша маленький был, полгодика ему, грудной, куда я поеду, и Полина повезла Борю в Турунтаево, с ним на скорой поехала. А соседскому парнишке дробинка в ухо попала – прострелила хрящ. На завтра утром поехала в Турунтаево, а Боря такой длинный-длинный, высокий, бледный, но и всё, забинтованный, пролежал там неделю. И мама того парнишки, которому дробинка в ухо попала, привезла его, ему из хряща её вытащили. А дробинка у Бори так и осталась в руке, с этой дробинкой так и умер. В армию пошёл – её не вытащили, под кожей и бегала. Ну ничего, господь миловал, живой – живой.
Второй случай был, мы уже в Усть-Баргузине жили. Переехали туда в мае 1965, жили там на Ватутина, а это по осени уже было. Дедушка из лесу приехал, он охотник был, а ружьё заряжено было. Он ушёл в общежитие – тут рядом общежитие было, там подсочники жил.
Я взяла ведро, пошла доить корову. С кухни прямо выход был, крыльцо в улицу выходило, а с крыльца в ограду идёшь. Ну я пошла, взяла подойник. По коридору только подхожу к дверям-то – как стрельнет мимо меня, справа, вот сантиметров пять или шесть прямо в колоду, в дверной косяк то есть, пуля! Чуть-чуть – и мне бы прямо в затылок. Я так испугалась, ведро бросила, говорю: «Вы что делаете-то?»
Ребятишки уж большеньки были, Валере было 15 лет, а Боре 14, они с ружьём играли, не знали, что оно заряжено. Дедушка оставил и не сказал, а они что, ребятишки, им ружьё надо. Я потом ничего, подоила, всё нормально, целая - невредимая осталась, только испугалась шибко. И что, Оля, думаешь? У меня ночью открылось кровотечение от испуга. Я говорю: «Доча, беги, скажи, что мама заболела». Тут медпункт был рядом, участковый был фельдшер Дина Петровна, хорошая врач. Она тут же пришла, и меня в больницу. Я потом на этом испуге, на нервной почве и заболела.
Я пока в больнице долго лежала, они корову зарубили, которая плакала, Звёздочку; телёнка Черныша зарубили, съели, тёлку загубили, она вся высохла, куриц было 25 штук, они их заморили, кого они будут их кормить-то тут.
Вот так чудом жива осталась.
Переезд в Усть-Баргузин
6 марта 1965 умер тятя, 8-го его схоронили, а 5 или 6 мая Мише дали направление мастера открывать подсочку в Усть-Баргузине.
Коле было шесть лет, Андрюше – четыре, Боря учился в восьмом классе, Таня – в четвёртом.
Дали нам квартиру: кругом ёлки, песок, ни бани, ничего. Коля плакал: «Почё приехали в это несчастное Устье? Даже банечки нету, негде помыться». Коля уже большой был, в женскую баню с ним не пускали, ходили мыться к соседям.
Боря и Таня остались доучиваться в Кике, жили у бабы Римы, а Валера в тот год не учился: в девятом классе в Турке до половины доучился, потом заболел и учился дома.
Прожили в том доме до 68-го года, до февраля. Валера в 67-м в институт в Иркутске поступил. Борю отправили из Кики в Устье сдавать экзамен, а он не сдал или не стал сдавать и остался на второй год. А я всё время болела, хворь напала, как тятю схоронили.
У нас была корова Звёздочка, тёлка Зорька и телёнок Черныш. Ограды не было, с улицы в дом заходили. Черныш ходил по посёлку и всё добротное импортное шёлковое жевал. Напротив мастера молодые жили, она настирает белья, комбинашек, чулков, у них всё дорогое, а Черныш придёт и всё сжуёт у них. Когда узнали, чей, шуму было, с претензией к нам пришли.
Звёздочку угоню на 5-й километр, а трава в Устье худая, одна резучка, она не наедается, идёт сразу за мной. Положит мне голову на грудь – и плачет, слёзы из глаз как корольки[66] падают.
Мы с дедушкой уехали на покос, попросили соседку Звёздочку доить. Звёздочка ушла с телёнком и пропала. Соседка плакала, хорошая была. Мы объявления повесили, что корова пропала. Десять дней её не было. Потом приехал лесовозник, сказал, что видел. Поехали мы с ним и с дедой на заимку на 14-м километре, там старик со старухой жили, кирпичи делали. Они увидели, корова с телёнком ходит, загнали её себе, доили. А лесовозник мимо ехал, спросил, чья, они сказали, что забрела корова, вот он нам рассказал, объявление увидел. Я хлеб и ведро взяла, позвала Звёздочку, а она ко мне как побежит!
Я тогда болела, по два месяца в больнице лежала. Дед на подсочку уйдёт работать, потом с подсочниками загуляют. Корову зарубили, мясо продали, прогулял, вот только диван, который на веранде, купили, рублей за 80, кажется.
Коле было шесть лет, Андрюше – четыре, Боря учился в восьмом классе, Таня – в четвёртом.
Дали нам квартиру: кругом ёлки, песок, ни бани, ничего. Коля плакал: «Почё приехали в это несчастное Устье? Даже банечки нету, негде помыться». Коля уже большой был, в женскую баню с ним не пускали, ходили мыться к соседям.
Боря и Таня остались доучиваться в Кике, жили у бабы Римы, а Валера в тот год не учился: в девятом классе в Турке до половины доучился, потом заболел и учился дома.
Прожили в том доме до 68-го года, до февраля. Валера в 67-м в институт в Иркутске поступил. Борю отправили из Кики в Устье сдавать экзамен, а он не сдал или не стал сдавать и остался на второй год. А я всё время болела, хворь напала, как тятю схоронили.
У нас была корова Звёздочка, тёлка Зорька и телёнок Черныш. Ограды не было, с улицы в дом заходили. Черныш ходил по посёлку и всё добротное импортное шёлковое жевал. Напротив мастера молодые жили, она настирает белья, комбинашек, чулков, у них всё дорогое, а Черныш придёт и всё сжуёт у них. Когда узнали, чей, шуму было, с претензией к нам пришли.
Звёздочку угоню на 5-й километр, а трава в Устье худая, одна резучка, она не наедается, идёт сразу за мной. Положит мне голову на грудь – и плачет, слёзы из глаз как корольки[66] падают.
Мы с дедушкой уехали на покос, попросили соседку Звёздочку доить. Звёздочка ушла с телёнком и пропала. Соседка плакала, хорошая была. Мы объявления повесили, что корова пропала. Десять дней её не было. Потом приехал лесовозник, сказал, что видел. Поехали мы с ним и с дедой на заимку на 14-м километре, там старик со старухой жили, кирпичи делали. Они увидели, корова с телёнком ходит, загнали её себе, доили. А лесовозник мимо ехал, спросил, чья, они сказали, что забрела корова, вот он нам рассказал, объявление увидел. Я хлеб и ведро взяла, позвала Звёздочку, а она ко мне как побежит!
Я тогда болела, по два месяца в больнице лежала. Дед на подсочку уйдёт работать, потом с подсочниками загуляют. Корову зарубили, мясо продали, прогулял, вот только диван, который на веранде, купили, рублей за 80, кажется.
[66] Кораллы
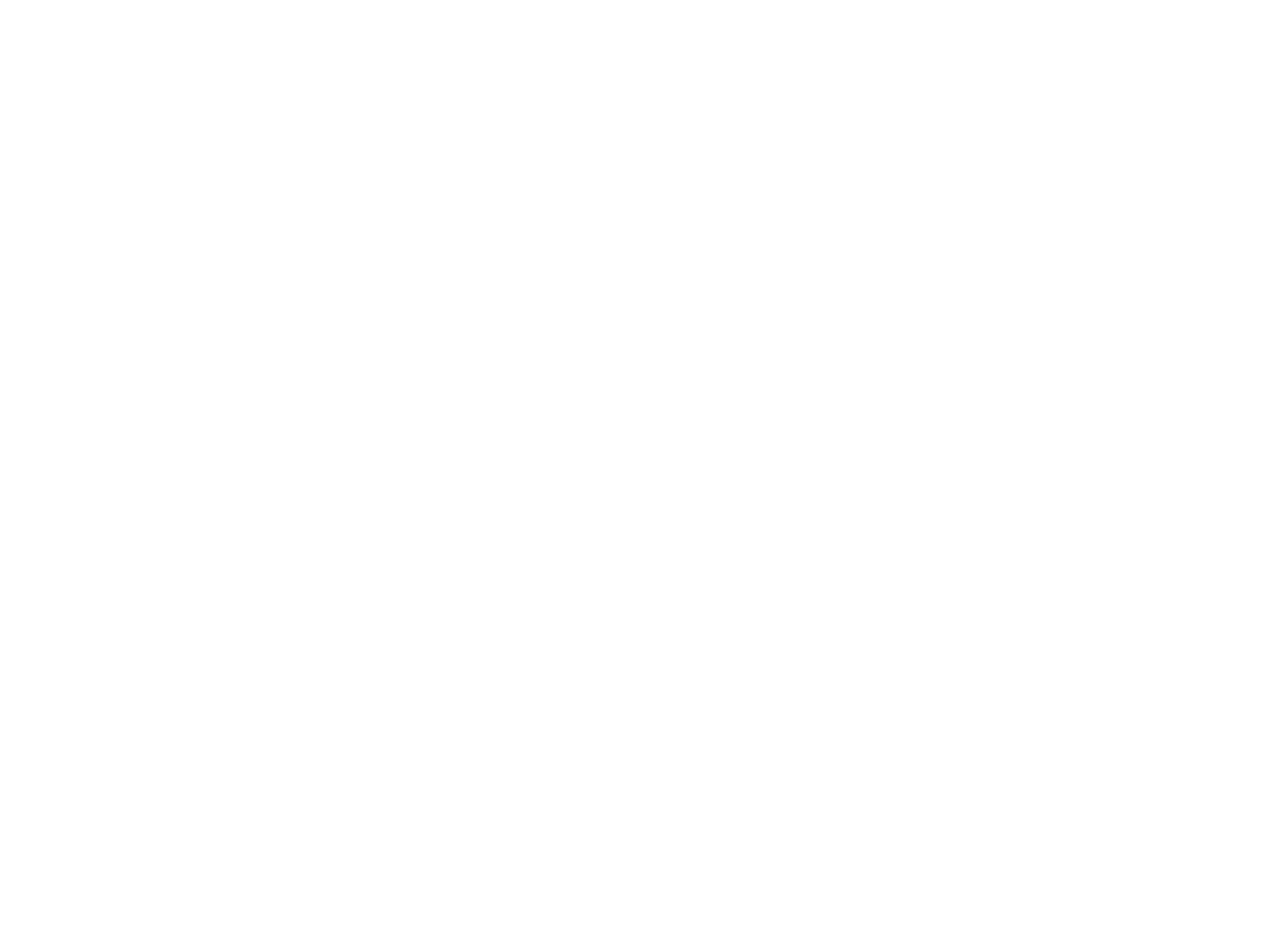
В Усть-Баргузине. Андрей, Коля, Таня, Борис, Шура, Михаил.
Как Михаила судили
В 68-м дедушку судили. Подсочники деньги получили, а смолы не собрали. Деду попросили приписать, будто сдали, чтобы зарплату получить, обещали всё сделать, а мороз спустился – живица[67] замерзла, ничего они не сдали.
Когда стали разбираться, не признались, оговорили его. Дедушке за приписку дали три года. Валера приехал на каникулы в июле или августе, проучился в институте и взял академический, говорит: «Ты, мама, одна, тебе помогать надо». Дедушка отсидел девять месяцев. Всё просил ребятишек привезти, они маленькие, он скучал, видимо. Я по десять дней кровати тогда не видела, работала, сторожила – и заболела. В 68-м, в ноябре, Валеру в армию взяли.
Когда стали разбираться, не признались, оговорили его. Дедушке за приписку дали три года. Валера приехал на каникулы в июле или августе, проучился в институте и взял академический, говорит: «Ты, мама, одна, тебе помогать надо». Дедушка отсидел девять месяцев. Всё просил ребятишек привезти, они маленькие, он скучал, видимо. Я по десять дней кровати тогда не видела, работала, сторожила – и заболела. В 68-м, в ноябре, Валеру в армию взяли.

[67] Смола
Как от соседа Лёни жена сбежала
У Лёни, соседа, трое ребятишек было, младшему Серёже лет 10. Лёне и Люсе обоим под 40 было. Лёня работал по суткам и накопил денег на мотоцикл, а жена его Люся каким-то образом денежки эти сняла, заимела себе хахаля и снялась. Бросила ребятишек и умчалась с этим хахалем. На мотоцикле.
А потом кавалер этот сдох, ну, умер. Прошло уж сколько лет, Лёня женился на Вале, 20 лет с ней прожил. После её смерти с Машей сошёлся.
И тут приезжает Люся, жена которая. И приходит ко мне Верка, жена Сержкина, сына Лёни и Люси, и говорит: «Тётя Шура, сходи за Лёней. Люся хочет его увидеть, из Свердловска приехала». Ну я сходила.
Ну и пришли они, сели. А Лёня сразу убежал, а Маша, жена новая, осталась с Люсей, сбежавшей женой. Ну посидели.
У Люси старшая дочь в Петербурге живёт, и вот Люсю парализовало, дочь её к себе забрала. Два года Люся уже лежит, а Лёня счастливый живёт. С Машей браво живут.
А Серёжка мать так и не простил, что она его в 5-м классе бросила.
Вот такая история с соседом.
А потом кавалер этот сдох, ну, умер. Прошло уж сколько лет, Лёня женился на Вале, 20 лет с ней прожил. После её смерти с Машей сошёлся.
И тут приезжает Люся, жена которая. И приходит ко мне Верка, жена Сержкина, сына Лёни и Люси, и говорит: «Тётя Шура, сходи за Лёней. Люся хочет его увидеть, из Свердловска приехала». Ну я сходила.
Ну и пришли они, сели. А Лёня сразу убежал, а Маша, жена новая, осталась с Люсей, сбежавшей женой. Ну посидели.
У Люси старшая дочь в Петербурге живёт, и вот Люсю парализовало, дочь её к себе забрала. Два года Люся уже лежит, а Лёня счастливый живёт. С Машей браво живут.
А Серёжка мать так и не простил, что она его в 5-м классе бросила.
Вот такая история с соседом.
Как за клюквой ездили
Ездили Михаилом за клюквой на моторолке на 9-й килòметр, я вот таки высокие сапоги болотные надела.
Приехали. Ходили-ходили по этому болоту – хоть бы одну ягодку собрали: ни одной! Я ходила-ходила, ещё платок там потеряла. Ладно, вышли, я говорю: «Поехали домой».
На второй килòметр приехали, смотрим: там мотоциклы стоят, полным полно!
Я говорю: «Дедушка, остановись. Поедем, может там хоть маленько наберём клюквы». Остановились, пошли. Он мне даёт свечу [свечной ключ от мотороллера] и каску. «Спрячь туда», - говорит.
Свечу в каску полòжила, каску на руку повесила, всё спрятала. Пошли мы. Мы махом набрали два ведра клюквы вот такущей, целый рюкзачок. Дедушка её на горб, вылез вперёд меня.
А выходить вот так. Там болото, всё размесили, размензюлили. У меня вот такие сапоги, да находилась я. Я пошла взяла каску. Он кричит: «Тащи свечу!». Я, значит, стала выходить и провались вот до сих пор [по пояс] в болото. Как махнула рукой, а ключ-то улетел в болото!
Он кричит:
- Ключ, туда-сюды! Тащи ключ!
- Да какой ключ, я уронила его!
- Ключ! Ключ!
Ну и на весь лес. Я сама до сих пор уже тону, спустила руки-то и давай искать этот ключ в болоте, в грязè. Нашла. Положила опять в каску; каску опеть повесила. Стала вылазить – и опеть как махнула, и у меня выпал!
А он ревёт, заводить же надо!
Я ему говорю: «Какой ключ, ты меня вытаскивай, я сейчас утону!». Я туда уже грузну, в это болото-то.
А потом, Господи милосливый, он завёлся, мотоцикл-то. Моторолка завелась! И он потом прибежал, подал руку. Я чуть не утонула там. Это было всё!
Это так неинтересно, это видеть надо было! А матерился-то как, на весь лес.
Вот таки дела.
Приехали. Ходили-ходили по этому болоту – хоть бы одну ягодку собрали: ни одной! Я ходила-ходила, ещё платок там потеряла. Ладно, вышли, я говорю: «Поехали домой».
На второй килòметр приехали, смотрим: там мотоциклы стоят, полным полно!
Я говорю: «Дедушка, остановись. Поедем, может там хоть маленько наберём клюквы». Остановились, пошли. Он мне даёт свечу [свечной ключ от мотороллера] и каску. «Спрячь туда», - говорит.
Свечу в каску полòжила, каску на руку повесила, всё спрятала. Пошли мы. Мы махом набрали два ведра клюквы вот такущей, целый рюкзачок. Дедушка её на горб, вылез вперёд меня.
А выходить вот так. Там болото, всё размесили, размензюлили. У меня вот такие сапоги, да находилась я. Я пошла взяла каску. Он кричит: «Тащи свечу!». Я, значит, стала выходить и провались вот до сих пор [по пояс] в болото. Как махнула рукой, а ключ-то улетел в болото!
Он кричит:
- Ключ, туда-сюды! Тащи ключ!
- Да какой ключ, я уронила его!
- Ключ! Ключ!
Ну и на весь лес. Я сама до сих пор уже тону, спустила руки-то и давай искать этот ключ в болоте, в грязè. Нашла. Положила опять в каску; каску опеть повесила. Стала вылазить – и опеть как махнула, и у меня выпал!
А он ревёт, заводить же надо!
Я ему говорю: «Какой ключ, ты меня вытаскивай, я сейчас утону!». Я туда уже грузну, в это болото-то.
А потом, Господи милосливый, он завёлся, мотоцикл-то. Моторолка завелась! И он потом прибежал, подал руку. Я чуть не утонула там. Это было всё!
Это так неинтересно, это видеть надо было! А матерился-то как, на весь лес.
Вот таки дела.
В новый год жена вернулась
... и будьте радостны!
Ссылки и дополнения
Семейские
Семейские – русские старообрядцы Сибири. Отличались трудолюбием, закрытостью, сплочённостью. Выделялись своей яркой одеждой, сформировавшейся в XVII - нач. XVIII в. во время проживания в Польше. Семейские любят наряжаться и украшать себя. Особенно ярко это проявляется в праздничном костюме, сшитом из дорогих цветастых тканей: атласа, кашемира, бурсы, канфы, шелка, плиса. Для семейских характерен культ духовной и физической чистоты. Чистоте помыслов соответствовала чистота тела, жилища, одежды. Мама Таня помнит, что семейские бабушки ходили всегда нарядными, в коралловых бусах – корольках, в многослойных фартуках. В домах и дворах всегда было опрятно и по уму.
Первыми в Сибири стали использовать плуг, для боронования - плетеные бороны с деревянными зубьями, затем рамочные деревянные бороны с железными зубьями. «Они и камень сделали плодородным», - отозвался о них иркутский губернатор Трескин. Выращивали рожь (ярицу), пшеницу, овес, ячмень, просо, гречиху, коноплю, капусту, морковь, лук, чеснок, редьку, репу, брюкву, редис, укроп, свеклу, позднее - картофель. Староверы называли его «чертовы яблоки» и долго отказывались разводить. Для полива пашен и огородов перепруживали речки и устраивали канавы. Животноводство имело подсобное значение.
Отрывки из воспоминаний, где упоминаются Чебунины (отцовская линия дедушки) и Заиграевы (материнская линия дедушки):
Полина Анненкова, жена декабриста. Воспоминания.
Анненкова Полина. Воспоминания. М.: Захаров, 2003. Серия "Биографии и мемуары". Воспоминания впервые были опубликованы в "Русской Старине" в 1888 году.
Я должна была остановиться у крестьянина Чебунина, он был из самых богатых в деревне, и все они жили хорошо. Это были все раскольники, сосланные в царствование Екатерины. Деревня Тарбогатай чрезвычайно богата. Чебунина дом выбрал сам Лепарский для всех дам, которые одна за другою останавливались. Когда я въезжала на двор, меня ждали, дом был весь освещен, и даже на дворе горели фонари. Меня ввели в сени, где были две двери, одни -- прямо, в которые меня просили войти, другие -- налево. Сам старик хозяин встретил меня со своею дочерью, он был видный старик, благообразной наружности, но глаза у него были недобрые, и я это заметила тотчас же. Дочь его была довольно красива и очень хорошо одета. Он меня принял очень приветливо и говорил, что ему лестно, что комендант выбрал его дом, чтобы нам останавливаться. Дом был очень чистый, убранный, везде лежали ковры; мне хотелось хорошенько отдохнуть, но я была в затруднении с люльками, которые вешались на кольце, а кольцо надо было ввинчивать в потолок: я боялась испортить штукатурку. Старик, заметя это, просил меня не церемониться, говоря, что если потолок будет немного испорчен, то это останется ему на память, и это говорил он с любезностью, которая удивляла в таком простом человеке. Дочь явилась с подносом и чашками и потчевала меня. Мне страшно хотелось есть, но нечего было делать, надо было довольствоваться чаем. Потом старик стал торопить меня ложиться спать, говоря, что мне нужно будет рано выехать, потому что станция будет большая.
Я стала раздеваться и положила на стол часы с цепочкой, портфель с деньгами, молитвенник и три стакана серебряных. Старик вдруг вернулся и сказал мне, что лучше было бы все это положить под подушку. Меня немного удивило его замечание, но я далека была от всякого подозрения. Дочь его легла в моей комнате и даже рядом со мною. Едва начало светать, как старик разбудил меня, дочь его была уже на ногах и приготовляла чай. Меня удивляло, почему старик так торопил, я поспешила встать, и в ту минуту, как кормила тебя, дверь вдруг за мною растворилась, и слова, произнесенные на французском языке, поразили меня. Я обернулась: передо мной стоял старик с большою седой бородой, и такие же волосы падали на плечи. Одет он был как-то странно, совершенно по-летнему, несмотря на то, что была уже осень. Чулок на нем не было, но были только башмаки. Я начала его расспрашивать, какими судьбами он тут и кто он такой. В то время, когда я его видела, ему было 107 лет. Каков был мой ужас, когда он объяснил мне, что я в доме известных разбойников, что сыновья старика занимаются разбоем как ремеслом. Тут я только поняла тревогу старика.
Выходя из своей комнаты, я заметила, что сыновья старика спали в той комнате, которой дверь я заметила, входя в дом. Потом мы узнали ужасные вещи про сыновей, на них лежало несколько убийств, они останавливали и грабили обозы. Особенно страдали священники, которых посылали в их деревню. Год спустя, после того как я ночевала у них, они остановили Занадворова, который вез казенные деньги, привязали его к дереву и деньги взяли. Их присудили к плетям и к каторжной работе, но они откупились, даже младший сын остался при отце, старший только должен был скрываться некоторое время. Дочь была в богатом сарафане, в шелковой рубашке и в кокошнике.
Выезжая из Тарбогатая, надо было ехать лесом густым. Проезжая полями, я заметила, что хлеб был бесподобный. Потом надо было ехать лесом. Восемь человек провожали меня верхом. В этом именно лесу остановили Чебунины Занадворова. Там это случается часто, беглых по лесам пропасть.
Из воспоминаний декабриста А.Е. Розена.
Розен А.Е..Записки декабриста. Иркутск Восточно-Сибирское книжное издательство 1984. Глава 9
От города Верхнеудинска мы свернули с большой дороги влево; через три перехода прибыли на дневку в обширное селение Тарбагатай, похожее с первого взгляда на хорошие села ярославские, приволжские по наружному виду жителей и просторных домов. Здесь и на протяжении пятидесяти верст кругом живут все семейские: так поныне называются обитатели нескольких деревень, которых деды и отцы были сосланы в царствование Анны Иоанновны в 1733 году и Екатерины Великой в 1767 году за раскол, большею частью из Дорогобужа и из Гомеля. Им дозволено было продать все свое имущество движимое и переселиться в Сибирь с женами и детьми, отчего и получили наименование семейных, или семейских. Прибыв за Байкал в Верхнеудинск, явились там комиссару, который от начальства имел повеление поселить их отдельно в пустопорожнем месте. Комиссар повел их в конце великого поста в дремучий бор по течению речки Тарбагатай, позволил им самим выбрать место и обстроиться как угодно, дав им четыре года льготы от платежа подушных податей. Каково было удивление этого чиновника, когда посетил их через полтора года и увидел красиво выстроенную деревню, огороды и пашни в таком месте, где за два года был непроходимый лес. Это волшебство было вызвано трудолюбием, но также и деньгами и беглыми. Как семейским позволено было на родине продать все свое имущество, то прибыли в Сибирь с деньгами; лишь только соседи узнали о прибытии их, то они и много ссыльных мастеровых из окрест лежащих рудников прибежали к ним на помощь, и дело шло быстро и хорошо. От Верхнеудинска на ночлегах и дневках нас помещали не в юртах, но в больших селениях. В Тарбагатае мы дневали и имели время и случай рассмотреть все подробно. Мне отведена была квартира у крестьянина, одного из братьев Чабуниных: дома в несколько горниц, с большими окнами, крыши тесовые, крыльца крытые; в одной половине дома обширная изба для рабочих, с русской печкой для стряпанья и печения; в другой половине от трех до пяти чистых горниц с голландскими печками; полы все покрыты коврами собственного изделия, столы и стулья крашеные, зеркала с ирбитской ярмарки. Избы и дома у них не только красивы углами, но и пирогами; хозяйка наша Пестимья Петровна угостила нас на славу щами, ветчиною, осетриною, пирожками и кашицами из всех возможных круп, от гречневой до манной и рисовой. Во дворе под навесом стояли все кованые телеги, сбруя была сыромятная, кони были дюжие и сытые, а люди, люди! ну, право, все молодец к молодцу, красавицы не хуже донских — рослые, белолицые и румяные.
День был воскресный, мужчины расхаживали в суконных синих кафтанах, женщины — в душегрейках шелковых с собольими воротниками, а кокошники — один лучше и богаче другого. Одним словом, все у них соответствовало одно другому: от дома до плуга, от шапки до сапога, от коня до овцы, — все показывало довольство, порядок, трудолюбие. Одно только поражает приезжего, что в таком обширном селении нет церкви, а только часовня и молельня. Семейские принадлежат не к вредным сектам, в коих при богослужении предаются разврату или бесчеловечно себя истязают и уродуют; они только не имеют священника, придерживают древних книг до времен Никона и имеют старинные образа; из среды своей избирают чтеца и служителя. Можно причислить их к расколу беспоповщины. Как все старообрядцы, они не употребляют ни табаку, ни чаю, ни вина, ни лекарств — все это почитают за грех; они не прививают оспы, но, видно, вера их крепка, ни одного не встретил между ними рябого; они богомольны, прилежно читают Священное писание и строго соблюдают обряды свои.
Народ сильный и здоровый поддерживает свою крепость, свое здоровье прилежным трудом и здоровою пищею. В мясоед каждый день имеют говядину или свинину, в пост — рыбу; не только в доме и в амбарах видны довольство и обилие, но и в сундуках хранятся капиталы. Между поселянцами несколько хозяев нажили до 100 тысяч рублей подрядами и доставками хлеба, зерном или мукою и торговлей с китайцами, дорогою ценою продают им отборную пшеницу, черные мерлушки, шкуры черных ягнят и овец. Поля и обработка полей представляют совершенство, между тем как в недальнем от них расстоянии селения и пашни старожилов показывают крайнюю бедность и разорение. «Отчего соседи ваши так бедны?» — спросил я хозяина моего. «Как им не быть бедными, — ответил он, — когда в рабочую пору петух пропоет с зарею, то мы уже на поле и пашем в прохладе, а старожил только что просыпается да принимается варить для себя кирпичный чай; пока он дотащится до поля, солнце уже высоко; мы оканчиваем первую упряжку и отдыхаем, а он в жар мучает себя и скотину свою; ни у него, ни у коня нет сил, так и запашка жалкая. Сверх того, старожилы пьянствуют, не берегут копейки, оттого и не собирают капиталов». Н. А. Бестужев заметил богатому хозяину, почему в деревне они не заводят у себя машин для облегчения и ускорения работ, например молотильную и веяльную? Хозяин ответил: «Для молотьбы у нас цепы и сушеные снопы в овинах; случается, что в урожайные годы, при дешевизне цен, хлеб наш без всякого вреда может пролежать в амбаре семь лет и больше; а для веяния хлеба служит нам широкая лопата. Не знаю, сколько ваша машина провеет в день?» — «Четвертей двадцать». — «Так моя лопата и моя рука провеют не меньше», — возразил он, вытянув сильную руку, коей кисть была шириною в три вершка, и показав нам лопату широкую, вздымающую до получетверика зерна. Весь натужный вид этих людей превосходный; они блаженствуют, имеют свое общинное правление, выбирают своих старост; на мирской сходке раскладывают все подати и повинности земские, никогда не бывают в долгу, рекрут ставят исправно. Между ними нет сословий с преимуществами, они имеют дело только с исправником и заседателем, с которыми умеют ладить. На другой день ночевали мы также в деревне семейской и нашли тот же быт и тот же достаток. Хозяин наш, Федор Иванович Заиграев, принял нас по-европейски. Он нажил себе большое состояние подрядами в Тарбагатае, но неприятности с начальством заставили его переселиться в соседнюю деревню, где он отказался от торговых оборотов. Еще имели мы дневку в третьей обширной деревне семейских, в Десятникове; там на квартире нашей застали 110-летнего бодрого старца, который прибыл сюда в числе первых семейских изгнанников в царствование императрицы Анны Иоанновны в 1733 году; ему было тогда тринадцать лет от роду, он хорошо помнил все обстоятельства дальнего переселения и первоначального устройства. Старец словоохотный рассказывал, как они прибыли в место необитаемое, как трудились, что наемный поденщик получал тогда по пяти копеек меди в сутки, что ни он, ни родители, ни земляки не жалели о родине, потому что переселились целыми семействами и родствами, что страна изгнания доставила им веротерпимость и довольство. Старец жил в доме своего младшего четвертого сына, которому было уже за 70 лет. Прадед хотя уже сам не работал, но имел привычку носить всегда топор за поясом и рано утром сам будил внуков на работу. Он повел меня к трем старшим сыновьям своим и с простительным тщеславием показал мне, где для каждого из них он выстроил особенный большой дом с дворами и амбарами и для каждого дома по водяной мельнице. «Для чего ты, дедушка, так много выстроил мельниц?»—спросил я старца. «А посмотри-ка, поля-то какие у нас!» — сказал он, показывая рукою на окрест лежащие возвышенности и горы, коих все овраги и вершины были вспаханы; почва родит славнейшую пшеницу, коей белизна муки не уступит крупчатой муке московских калачей и французских булок, а кроме того находил я приятный вкус и запах пшеничный, который бывает в удачных свежих малороссийских поленицах. По богатству и довольству поселян мне представилось, что вижу трудолюбивых русских в Америке, а не в Сибири; но в этих местах Сибирь не хуже Америки, земля также привольная, плодородная; жители управляются сами собою, сами открыли сбыт своим произведениям и будут блаженствовать, пока люди бестолковые не станут вмешиваться в их дела, забывая, что устроенная община в продолжение века лучше всех посторонних понимает действительную выгоду свою .
Первыми в Сибири стали использовать плуг, для боронования - плетеные бороны с деревянными зубьями, затем рамочные деревянные бороны с железными зубьями. «Они и камень сделали плодородным», - отозвался о них иркутский губернатор Трескин. Выращивали рожь (ярицу), пшеницу, овес, ячмень, просо, гречиху, коноплю, капусту, морковь, лук, чеснок, редьку, репу, брюкву, редис, укроп, свеклу, позднее - картофель. Староверы называли его «чертовы яблоки» и долго отказывались разводить. Для полива пашен и огородов перепруживали речки и устраивали канавы. Животноводство имело подсобное значение.
Отрывки из воспоминаний, где упоминаются Чебунины (отцовская линия дедушки) и Заиграевы (материнская линия дедушки):
Полина Анненкова, жена декабриста. Воспоминания.
Анненкова Полина. Воспоминания. М.: Захаров, 2003. Серия "Биографии и мемуары". Воспоминания впервые были опубликованы в "Русской Старине" в 1888 году.
Я должна была остановиться у крестьянина Чебунина, он был из самых богатых в деревне, и все они жили хорошо. Это были все раскольники, сосланные в царствование Екатерины. Деревня Тарбогатай чрезвычайно богата. Чебунина дом выбрал сам Лепарский для всех дам, которые одна за другою останавливались. Когда я въезжала на двор, меня ждали, дом был весь освещен, и даже на дворе горели фонари. Меня ввели в сени, где были две двери, одни -- прямо, в которые меня просили войти, другие -- налево. Сам старик хозяин встретил меня со своею дочерью, он был видный старик, благообразной наружности, но глаза у него были недобрые, и я это заметила тотчас же. Дочь его была довольно красива и очень хорошо одета. Он меня принял очень приветливо и говорил, что ему лестно, что комендант выбрал его дом, чтобы нам останавливаться. Дом был очень чистый, убранный, везде лежали ковры; мне хотелось хорошенько отдохнуть, но я была в затруднении с люльками, которые вешались на кольце, а кольцо надо было ввинчивать в потолок: я боялась испортить штукатурку. Старик, заметя это, просил меня не церемониться, говоря, что если потолок будет немного испорчен, то это останется ему на память, и это говорил он с любезностью, которая удивляла в таком простом человеке. Дочь явилась с подносом и чашками и потчевала меня. Мне страшно хотелось есть, но нечего было делать, надо было довольствоваться чаем. Потом старик стал торопить меня ложиться спать, говоря, что мне нужно будет рано выехать, потому что станция будет большая.
Я стала раздеваться и положила на стол часы с цепочкой, портфель с деньгами, молитвенник и три стакана серебряных. Старик вдруг вернулся и сказал мне, что лучше было бы все это положить под подушку. Меня немного удивило его замечание, но я далека была от всякого подозрения. Дочь его легла в моей комнате и даже рядом со мною. Едва начало светать, как старик разбудил меня, дочь его была уже на ногах и приготовляла чай. Меня удивляло, почему старик так торопил, я поспешила встать, и в ту минуту, как кормила тебя, дверь вдруг за мною растворилась, и слова, произнесенные на французском языке, поразили меня. Я обернулась: передо мной стоял старик с большою седой бородой, и такие же волосы падали на плечи. Одет он был как-то странно, совершенно по-летнему, несмотря на то, что была уже осень. Чулок на нем не было, но были только башмаки. Я начала его расспрашивать, какими судьбами он тут и кто он такой. В то время, когда я его видела, ему было 107 лет. Каков был мой ужас, когда он объяснил мне, что я в доме известных разбойников, что сыновья старика занимаются разбоем как ремеслом. Тут я только поняла тревогу старика.
Выходя из своей комнаты, я заметила, что сыновья старика спали в той комнате, которой дверь я заметила, входя в дом. Потом мы узнали ужасные вещи про сыновей, на них лежало несколько убийств, они останавливали и грабили обозы. Особенно страдали священники, которых посылали в их деревню. Год спустя, после того как я ночевала у них, они остановили Занадворова, который вез казенные деньги, привязали его к дереву и деньги взяли. Их присудили к плетям и к каторжной работе, но они откупились, даже младший сын остался при отце, старший только должен был скрываться некоторое время. Дочь была в богатом сарафане, в шелковой рубашке и в кокошнике.
Выезжая из Тарбогатая, надо было ехать лесом густым. Проезжая полями, я заметила, что хлеб был бесподобный. Потом надо было ехать лесом. Восемь человек провожали меня верхом. В этом именно лесу остановили Чебунины Занадворова. Там это случается часто, беглых по лесам пропасть.
Из воспоминаний декабриста А.Е. Розена.
Розен А.Е..Записки декабриста. Иркутск Восточно-Сибирское книжное издательство 1984. Глава 9
От города Верхнеудинска мы свернули с большой дороги влево; через три перехода прибыли на дневку в обширное селение Тарбагатай, похожее с первого взгляда на хорошие села ярославские, приволжские по наружному виду жителей и просторных домов. Здесь и на протяжении пятидесяти верст кругом живут все семейские: так поныне называются обитатели нескольких деревень, которых деды и отцы были сосланы в царствование Анны Иоанновны в 1733 году и Екатерины Великой в 1767 году за раскол, большею частью из Дорогобужа и из Гомеля. Им дозволено было продать все свое имущество движимое и переселиться в Сибирь с женами и детьми, отчего и получили наименование семейных, или семейских. Прибыв за Байкал в Верхнеудинск, явились там комиссару, который от начальства имел повеление поселить их отдельно в пустопорожнем месте. Комиссар повел их в конце великого поста в дремучий бор по течению речки Тарбагатай, позволил им самим выбрать место и обстроиться как угодно, дав им четыре года льготы от платежа подушных податей. Каково было удивление этого чиновника, когда посетил их через полтора года и увидел красиво выстроенную деревню, огороды и пашни в таком месте, где за два года был непроходимый лес. Это волшебство было вызвано трудолюбием, но также и деньгами и беглыми. Как семейским позволено было на родине продать все свое имущество, то прибыли в Сибирь с деньгами; лишь только соседи узнали о прибытии их, то они и много ссыльных мастеровых из окрест лежащих рудников прибежали к ним на помощь, и дело шло быстро и хорошо. От Верхнеудинска на ночлегах и дневках нас помещали не в юртах, но в больших селениях. В Тарбагатае мы дневали и имели время и случай рассмотреть все подробно. Мне отведена была квартира у крестьянина, одного из братьев Чабуниных: дома в несколько горниц, с большими окнами, крыши тесовые, крыльца крытые; в одной половине дома обширная изба для рабочих, с русской печкой для стряпанья и печения; в другой половине от трех до пяти чистых горниц с голландскими печками; полы все покрыты коврами собственного изделия, столы и стулья крашеные, зеркала с ирбитской ярмарки. Избы и дома у них не только красивы углами, но и пирогами; хозяйка наша Пестимья Петровна угостила нас на славу щами, ветчиною, осетриною, пирожками и кашицами из всех возможных круп, от гречневой до манной и рисовой. Во дворе под навесом стояли все кованые телеги, сбруя была сыромятная, кони были дюжие и сытые, а люди, люди! ну, право, все молодец к молодцу, красавицы не хуже донских — рослые, белолицые и румяные.
День был воскресный, мужчины расхаживали в суконных синих кафтанах, женщины — в душегрейках шелковых с собольими воротниками, а кокошники — один лучше и богаче другого. Одним словом, все у них соответствовало одно другому: от дома до плуга, от шапки до сапога, от коня до овцы, — все показывало довольство, порядок, трудолюбие. Одно только поражает приезжего, что в таком обширном селении нет церкви, а только часовня и молельня. Семейские принадлежат не к вредным сектам, в коих при богослужении предаются разврату или бесчеловечно себя истязают и уродуют; они только не имеют священника, придерживают древних книг до времен Никона и имеют старинные образа; из среды своей избирают чтеца и служителя. Можно причислить их к расколу беспоповщины. Как все старообрядцы, они не употребляют ни табаку, ни чаю, ни вина, ни лекарств — все это почитают за грех; они не прививают оспы, но, видно, вера их крепка, ни одного не встретил между ними рябого; они богомольны, прилежно читают Священное писание и строго соблюдают обряды свои.
Народ сильный и здоровый поддерживает свою крепость, свое здоровье прилежным трудом и здоровою пищею. В мясоед каждый день имеют говядину или свинину, в пост — рыбу; не только в доме и в амбарах видны довольство и обилие, но и в сундуках хранятся капиталы. Между поселянцами несколько хозяев нажили до 100 тысяч рублей подрядами и доставками хлеба, зерном или мукою и торговлей с китайцами, дорогою ценою продают им отборную пшеницу, черные мерлушки, шкуры черных ягнят и овец. Поля и обработка полей представляют совершенство, между тем как в недальнем от них расстоянии селения и пашни старожилов показывают крайнюю бедность и разорение. «Отчего соседи ваши так бедны?» — спросил я хозяина моего. «Как им не быть бедными, — ответил он, — когда в рабочую пору петух пропоет с зарею, то мы уже на поле и пашем в прохладе, а старожил только что просыпается да принимается варить для себя кирпичный чай; пока он дотащится до поля, солнце уже высоко; мы оканчиваем первую упряжку и отдыхаем, а он в жар мучает себя и скотину свою; ни у него, ни у коня нет сил, так и запашка жалкая. Сверх того, старожилы пьянствуют, не берегут копейки, оттого и не собирают капиталов». Н. А. Бестужев заметил богатому хозяину, почему в деревне они не заводят у себя машин для облегчения и ускорения работ, например молотильную и веяльную? Хозяин ответил: «Для молотьбы у нас цепы и сушеные снопы в овинах; случается, что в урожайные годы, при дешевизне цен, хлеб наш без всякого вреда может пролежать в амбаре семь лет и больше; а для веяния хлеба служит нам широкая лопата. Не знаю, сколько ваша машина провеет в день?» — «Четвертей двадцать». — «Так моя лопата и моя рука провеют не меньше», — возразил он, вытянув сильную руку, коей кисть была шириною в три вершка, и показав нам лопату широкую, вздымающую до получетверика зерна. Весь натужный вид этих людей превосходный; они блаженствуют, имеют свое общинное правление, выбирают своих старост; на мирской сходке раскладывают все подати и повинности земские, никогда не бывают в долгу, рекрут ставят исправно. Между ними нет сословий с преимуществами, они имеют дело только с исправником и заседателем, с которыми умеют ладить. На другой день ночевали мы также в деревне семейской и нашли тот же быт и тот же достаток. Хозяин наш, Федор Иванович Заиграев, принял нас по-европейски. Он нажил себе большое состояние подрядами в Тарбагатае, но неприятности с начальством заставили его переселиться в соседнюю деревню, где он отказался от торговых оборотов. Еще имели мы дневку в третьей обширной деревне семейских, в Десятникове; там на квартире нашей застали 110-летнего бодрого старца, который прибыл сюда в числе первых семейских изгнанников в царствование императрицы Анны Иоанновны в 1733 году; ему было тогда тринадцать лет от роду, он хорошо помнил все обстоятельства дальнего переселения и первоначального устройства. Старец словоохотный рассказывал, как они прибыли в место необитаемое, как трудились, что наемный поденщик получал тогда по пяти копеек меди в сутки, что ни он, ни родители, ни земляки не жалели о родине, потому что переселились целыми семействами и родствами, что страна изгнания доставила им веротерпимость и довольство. Старец жил в доме своего младшего четвертого сына, которому было уже за 70 лет. Прадед хотя уже сам не работал, но имел привычку носить всегда топор за поясом и рано утром сам будил внуков на работу. Он повел меня к трем старшим сыновьям своим и с простительным тщеславием показал мне, где для каждого из них он выстроил особенный большой дом с дворами и амбарами и для каждого дома по водяной мельнице. «Для чего ты, дедушка, так много выстроил мельниц?»—спросил я старца. «А посмотри-ка, поля-то какие у нас!» — сказал он, показывая рукою на окрест лежащие возвышенности и горы, коих все овраги и вершины были вспаханы; почва родит славнейшую пшеницу, коей белизна муки не уступит крупчатой муке московских калачей и французских булок, а кроме того находил я приятный вкус и запах пшеничный, который бывает в удачных свежих малороссийских поленицах. По богатству и довольству поселян мне представилось, что вижу трудолюбивых русских в Америке, а не в Сибири; но в этих местах Сибирь не хуже Америки, земля также привольная, плодородная; жители управляются сами собою, сами открыли сбыт своим произведениям и будут блаженствовать, пока люди бестолковые не станут вмешиваться в их дела, забывая, что устроенная община в продолжение века лучше всех посторонних понимает действительную выгоду свою .